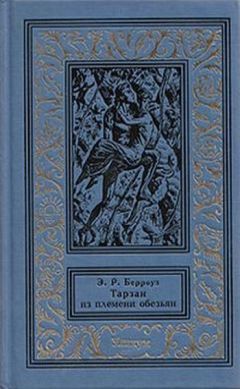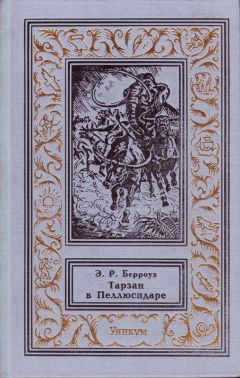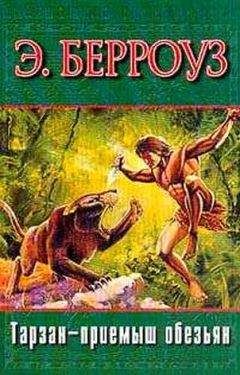Владимир Дружинин - Янтарная комната
— Разрешите ехать? — выпалил я.
— Куда? — Бакулин поднял брови. — Он здесь, в соседней комнате.
Я чуть не выбежал из кабинета. Бакулин погрузился в бумаги, у него было немало других дел.
В приемной, где сидел Крач, было еще несколько посетителей, но его я выделил сразу. Очень крупный, рыхлый, большелобый и совсем не похожий на пленного. Балахон лагерника, лопнувший на плече, он надел, видимо, недавно. У пленного не могло быть таких розовых щек, таких белых рук, явно незнакомых с физическим трудом.
— З очи в очи, — вымолвил он, и я не сразу понял его.
Он желал говорить с глазу на глаз. Я повел его во двор, к штабному автобусу, захваченному у немцев. Алоиз Крач с трудом втиснул туда свое большое, рыхлое, ослабевшее тело. Он несмело улыбнулся, опустил водянистые сонные глаза и сказал:
— Подполковник фон Шехт есть злочинец. Вы простите меня, я по-русски вельми плохо…
— Фон Шехт умер, — вставил я.
— Шкода! — Он выпрямился, сжал пухлые пальцы в кулак. — Шкода!
То, что фон Шехт избежал суда и казни, до крайности огорчило Алоиза.
Начав свою повесть, он успокоился, заговорил по-русски чище.
Родился он в Прешове. Отец — австриец, мать — словачка. Окончил русскую гимназию. В Прешовском крае давно, еще с прошлого века, стараниями просветителей-интеллигентов распространялась среди украинского и словацкого населения русская речь, русская культура.
Незадолго до войны отец умер и оставил Алоизу в наследство два обувных магазина. Но торговля не влекла его. С дипломом Венской художественной школы Алоиз бродил по свету, был в Италии, в Греции, во Франции. В Париже он женился на натурщице-бельгийке и осел в Брюсселе. Был призван в армию, угодил к немцам в плен. Долго мыкался по лагерям, потом его взял к себе подполковник фон Шехт.
Это было в 1944 году, летом. Из лагеря под Гамбургом Алоиза доставили в легковой машине в Берлин. Там в районе Панков, в унылом казарменном здании, он встретился с коллегами-художниками разных национальностей, собранными из концлагерей. Им объявили, что они могут заслужить милость и благоволение великой Германии. Потом их рассортировали. Алоиз Крач и его сосед по койке датчанин Ялмар Бэрк достались фон Шехту. Он отвез их в Пруссию, на виллу «Санкт-Маурициус».
Их хорошо одели, сытно накормили, отвели просторное, светлое ателье в мансарде, дали краски, кисти. Что ж, недурно! Правда, держали их на положении узников, за ворота виллы не выпускали, но с этим Алоиз примирился. Главное — уцелеть, пережить войну! А она шла к концу, успехи Советской Армии радовали Крача, хотя ему было решительно безразлично, кто победит, какой мир получит Европа. Лишь бы мир! Алоиз Крач сторонился политики, считал себя обитателем особой сферы, далекой от земной злобы дня. «Я на планете Искусства», — говорил он о себе. Нацисты, социалисты, коммунисты, — какое дело до них художнику! Картины его были беспредметны. Другие пытались изображать в неожиданных, вывернутых ракурсах явления и формы жизни, но он — Крач — не соглашался с ними. Нет, полное освобождение от земных пут, ничего реального, разумного! Истина для художника — его собственные видения! «Левее меня нет никого», — сказал он гордо журналисту перед открытием своей выставки в Париже. Она вызвала шум. С ним спорили. «Я так вижу», — отвечал он. Особенно поражало посетителей полотно, названное «Сад».
Тут Алоиз попросил у меня карандаш и на клочке бумаги вывел три треугольника: большой — острием вверх, поменьше — острием в сторону и еще маленький, равнобедренный треугольничек.
Я засмеялся. И это — сад? Не шутит ли художник? Тут мне вспомнились нелепые картины в подвале виллы фон Шехта.
— О, у вас, в Советском Союзе, отметают… отрицают, так? Но я видел ваше искусство. Подобно фотографии, да, да! Когда жил Рембрандт, не было фото. Нет! Теперь у нас аппараты: чик — готово. Художник должен тоже так? Нет!
Спорить я не решился, да и время не позволяло. Я спросил Алоиза, кто изобразил дерево с человеческими внутренностями вместо ветвей.
— То Ялмар. Он был немочный… больной человек. Он ничего иного не мог, — трупы, руины, руины, только руины. Я писал абстрактно.
— Это и требовал фон Шехт?
— Да. Я скажу…
В первый же день фон Шехт обошел с художниками комнаты виллы. Она вся была забита скульптурами, картинами, дорогим музейным фарфором. На многих вещах были инвентарные номера, таблички с надписями по-русски, по-польски, по-французски. Больше всего трофеев фон Шехт добыл в России.
Затем он усадил обоих в гостиной. Слуга принес кофе и ликеры. Фон Шехт разъяснил, чего ждет Германия от Крача и Бэрка.
Ценности, находящиеся на вилле, не принадлежат фон Шехту лично. Нет! Они — достояние Германии. Это дань слабых, низших народов немцам, нации господ. Он — фон Шехт — из патриотических побуждений превратил свою виллу в хранилище для некоторых, особо примечательных, произведений искусства и в мастерскую. Отдельные картины пострадали в военной обстановке и нуждаются в реставрации. Но это не всё.
Художникам поручается маскировка. Нет, не здания. Картин. Увы, война диктует свои законы. Ему — фон Шехту — претит самая мысль — замазывать шедевры знаменитых мастеров, К счастью, существуют краски специального состава, разработанные на предприятиях «Фарбениндустри», находка немецкого научного гения. Эти краски надежны, смыть их легко. И подлинник не потерпит никакого ущерба, — когда нужно будет, он вновь заблещет. Он возникнет подобно птице Феникс из пепла.
— Фон Шехт был образованный человек, — зло усмехнулся Крач. — Он имел в памяти античность. Греция, Рим…
Не сразу понял я, что Алоиз Крач, заблудившийся художник, обвинял не только фон Шехта, а судил еще и самого себя. Исповедовался, подводил итог прожитым: годам душевного одиночества.
— Никды… Никогда я не ставил вопрос, почему фон Шехт взял к себе именно пленных…
Вначале Крач наслаждался хорошей едой, чистой постелью, теплом, ванной — благами цивилизации, которых он был так долго лишен. Да, он замазывал старые картины. Но совесть его не тревожила. Он всегда верил, что абстрактное искусство вытеснит прежнее, классическое. И вот теперь он ниспровергает «кумиры из школьных хрестоматий», «гипноз банальности», «раскрашенные фотографии».
Фон Шехт подтрунивал над Алоизом. На рынке, бросил он как-то вскользь, Рембрандт стоит в сотни тысяч раз больше, чем упражнение абстракциониста. Однако бунтарство Крача нравилось хозяину. Нет, он не имел ничего против диковинных фигур без плоти, без смысла и цели, заслонявших творения живописцев прошлого. Фон Шехт требовал даже, чтобы художники ставили свои подписи. Плоха маскировка, если нарочитость ее обнаруживается с первого взгляда. Пусть работают с азартом, пусть утверждают самих себя!