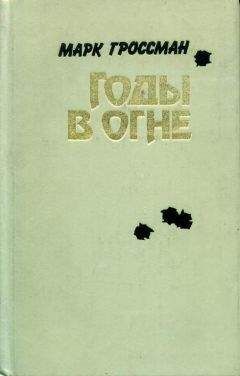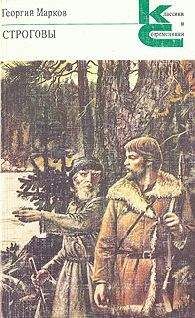Марк Гроссман - Камень-обманка
Катя молча взглянула на Хабару и направилась к зимнику.
ГЛАВА 16-я
ПЕРВЫЕ ТРЕЩИНЫ
За дверью зимовья ныла без края метель, и кто-то скребся в мутное окошко, и ветер скулил звериным голосом на одной нескончаемой ноте.
— Экая скука… — скривился Мефодий. — Хоть в петлю лезь. Не то, что человеку, а и волку тошно!
Он оползнем стек с нар, свалился на скамью и уставился недвижным взглядом в стену, будто ожидал, что из нее сейчас вылезет шишига или баба-яга. Внезапно повернулся к Хабаре, предложил, разминая узловатые длинные руки:
— Спел бы, что ли, Гришка, а? А я подхриплю.
Хабара не стал упираться. Он подсел ближе к огню, докурил, тщательно погасил окурок и вдруг, ни на кого не глядя, повел несильным чистым голосом:
Зимняя ночь, вьюга длится…
На сердце мне злая тоска.
А лег бы я спать, да не спится —
Все мысли уносятся вдаль…
Тут Гришка кивнул Мефодию, и Дикой подал свой сипловатый голос, только выводя мотив, поскольку не знал слов.
Туда, где родное селенье,
Туда, где подружка живеть,
Туда, где промчалося детство, —
Туда меня чё-то влекеть.
Там дни провожал я с дружками,
А ноченьку с милой я был.
Теперь я закован цепями,
На каторгу жить угодил…
Катя теснее придвинулась к Андрею, заглянула ему в глаза и, поняв, что он тоже непрочь попеть, тихо зазвенела словами. Россохатский подтягивал им с небольшим опозданием, даже Дин неторопливо шевелил губами, и его тусклые глаза теперь излучали неподдельную грусть.
А жизнь, будто взор, угасаеть,
А ноги мои не идуть,
А кашель мне грудь надрываеть,
Знай, скоро в могилу снесуть.
Лежу я в больнице, болею,
А солнышко смотрить в окно.
А гроб мой из старого теса
Уже поджидаеть меня…
Была эта полуграмотная каторжная песня почему-то наглядна для души, волновала своей ощутимостью, понятным человеческим горем.
И обволакивала душу людей в избе такая тоска, так много она говорила им, выброшенным из жизни, что хоть об стену головой.
Оттого Россохатский был даже благодарен Дикому, запевшему после паузы новые — все-таки пободрее — куплеты.
Не рассказать ли вам, ребята,
О двух удалых молодцах?
Глубоким сном тюрьма объята,
Не слышно шума голосов.
Не слышно песен запоздалых,
Души не видно у окна.
Лишь два кандальщика удалых —
Они не спят, им не до сна.
Да, в эту ночь они решили
На вольной воле побывать.
«Довольно здесь мы посидели,
Пора и совести нам знать.
Начальству мы уж надоели —
Кормить, поить и обувать,
Брить головы, сменять постели,
Оковы на ноги ковать…»
Катя, выводя эти строчки, все поглядывала на Россохатского, будто спрашивала: «А разумеешь ли, Андрюша, всю хитрую усмешку слов? А коли так — не грусти, милый!»
В этот вечер, как обычно, легли спать с наступлением темноты, жарко истопив печь и все же зная, что ее тепла не хватит до зари. Коптилку не зажигали. Медвежий жир подходил к концу, и Хабара лишь в особых случаях разрешал пользоваться плошкой, в которой плавал самодельный фитилек. Даже Мефодий не возражал против запрета: черт с ним, со светом, была бы жратва!
Лежали на узких нарах в густой, как мазут, темноте.
Катя поманила Андрея к себе в закуток, часто дышала ему в губы, и Россохатскому казалось: он чувствует жар ее тела через толстые и грубые одежды. И все-таки никак не отвечал ей. Да — боже мой! — разве ж он не хотел поменяться с ней ласками, обнять ее, целовать бессчетно эти тугие и чистые, как зимняя облепиха, губы! Но ведь нельзя же, нехорошо это и нечестно здесь, в казарме, с чужим затаенным дыханием!
Утро не принесло никаких перемен в их жизни, и вся работа была — подмести избу, запастись топливом, накормить коня.
Катя, улучив минуту, когда никого не оказалось вокруг, шепнула Андрею:
— Пойдем в баньку жить. Пойдем, милый… Измаялась я…
— Нет, — не согласился он. — Не по-божески это.
Она вспыхнула, сузила глаза, кинула с внезапной злостью:
— Боишься, баба!
Сотник хотел огрызнуться — «Черт с тобой, дура, идем!» — но сдержался и, обняв ее, проворчал:
— Радость на час — не праздник навек, Катя. И плохо это. Другим горько.
Кириллова внезапно взяла его за руку, долго разглаживала синеватые жилки на кисти, сказала будто подломившимся голосом:
— Не досадуй, прошу тя. Это на меня любовное поглупение нашло.
— Ну, что ты! — ласково отозвался он. — Я теперь никогда не сержусь на тебя, Катя.
И ему казалось, что он говорит правду, а может, это и была правда.
Торчать весь день в избе становилось невмоготу, и люди, махнув рукой на метель, исчезали за дверью.
Дин, случалось, уходил на рассвете и появлялся лишь вечером, внезапно и бесшумно, как всегда. Иногда он отдавал Кате глухаря или зайца, сшибленных в тайге, но чаще приходил с пустыми руками и молча подсаживался к огню, никому ничего не объясняя.
Гришка тоже отлучался из дома, однако не стрелял вовсе. Может, он искал в глуши медвежью берлогу, может, Чашу на Шумаке, а может, просто не позволял своим ногам лениться.
Один Мефодий никуда не ходил, торчал у печи или спал, мрачнея час от часу. На ворчанье Хабары, утверждавшего, что Дикой беспременно заболеет цингой, одноглазый не обращал внимания. Изредка он отбрехивался: больше спишь — меньше жрешь.
Хабара как-то вернулся из тайги с вязанкой кедрового стланика. Чуть не полдня колдовал возле печки, готовя из хвои зеленовато-коричневое зелье. Затем заставил всех пить отвар — по его словам — верное средство от хвори. Глотать горьковатую бурду было противно, но и цинга не сладкая штука, что поделаешь?
Коню было хуже, чем людям. Андрей почти знал: Зефира точит порча, или скука, или плохая еда. Сколько мог, берег жеребца, но лаской коня не накормишь, — худой и потускневший, он почти не трогал корма и мерз, вяло постукивая в землю сарая стершимися подковами.
Сотник время от времени прогуливал жеребца подле зимовья, чтоб не застаивался. И все же с грустью видел: конь гибнет. В больших, когда-то блестевших силой и удалью глазах жеребца теперь гнездились смертная тоска и усталость. Чем же мог помочь ему хозяин в этой снежной дыре?
Уреза́ли потихоньку дневной артельный паек. Мука́ кончалась, на исходе были медвежатина и оленина. Из кедровых орешков делали молочко, растирая ядра с водой, порой просто грызли орехи; пили сок облепихи. На всех этих запасов от силы хватит еще на месяц, а что дальше?