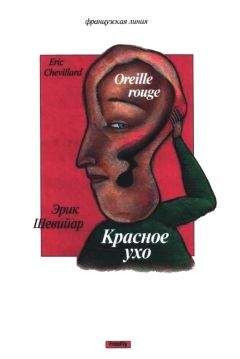Виталий Олейниченко - Красное золото
Стекла в автобусе были от налипшей грязи совершенно непрозрачными, в таких условиях должна хорошо развиваться клаустрофобия. В салоне пахло бензином и каталась по задней площадке случайно пропущенная старушками зеленая бутылка из-под пива. Садиться на одно из немногочисленных свободных мест я не стал из боязни уснуть — так и простоял всю дорогу, уставив нос в заоконную муть. А по ногам моим била и била настырная бутылка…
…Приблизительно в то же время прогорела безумной вспышкой артиллерийского салюта яркая и безумная, как любая вспышка, страсть между мной и одной моей однокурсницей. Вспыхнула ярко — и погасла. Так же, как сунутый в воду бенгальский огонь: шипя, но мгновенно… Инна была яркая, но серая. Этакая ярко-серая мышка. К тому же она была из тех, кого в конце восьмидесятых именовали «мажоры» (переводить не надо?) и доподлинно знала, что судьба ей предстоит такая же яркая, как она сама. Небывалая, в общем, ей была уготована будущность. Правда, в чем именно будущность сия будут заключаться, она, разумеется, объяснить не могла, только закатывала глаза и загадочно изгибала уголки губ… Ну а я, убогий, по той же классификации был, получается, абсолютный «минор» без каких бы то ни было светлых перспектив и вообще — не соответствовал. Формальным же поводом к разлуке послужила ее маленькая собачка неизвестной мне породы, черная и злая, как собака Баскервилей в масштабе один к десяти. Эта шавка повадилась хватать меня за пятки, то ли ревнуя хозяйку, то ли будучи просто излишне эмансипированной идиоткой, и однажды, когда меня совсем одолели эти пограничные провокации, я запер ее в книжный шкаф. На мой взгляд, на фоне фолиантов полного собрания сочинений известного историка Соловьева беззвучно тявкающая за стеклом тиранша смотрелась вполне импозантно, но у Инны было почему-то диаметрально противоположное мнение, мы тут же повздорили, я был немедленно отлучен от тела и изгнан — в назидание. А когда она решила меня простить, я был уже занят. В назидание. О чем, сказать по чести, иногда сожалел, ибо было в Инне нечто неуловимо-притягательное, нечто такое, на уровне флюидов, под наносной мишурой «мажорства». Но я был тогда молод и глуп, соскрести эту тонкую скорлупку не сумел — и прошел мимо…
Вообще, всегда как-то так складывалось, что дольше одной недели я бесхозным не оставался. Именно поэтому, трясясь в дребезжащем автобусе в сторону центра и обдумывая материалы кандидатской диссертации, одновременно с этим в каком-то более глубоком слое сознания я размышлял — кто и когда возьмет меня в свои нежные женские руки и пригреет на груди в течение пяти оставшихся дней.
Интересно, почему я вообще вдруг принялся вспоминать все эти жизненные перипетии?… А потому, наверное, что все наши деяния когда-нибудь в последующей жизни всплывают. И либо бьют, либо ублаготворяют. «Аукается», как говорит наш мудрый народ. Забавно, кстати — из всего вышесказанного и перечисленного должно следовать, что я какой-то ущербный. Неправильный. Но почему же я этого не чувствую?
ГЛАВА 2
«Икарус», чихнув, остановился. Меня безо всяких потерь вынесло под легкий снежок в потоке скучившихся на задней площадке пассажиров в таких же как у меня неопределенного цвета и покроя куртках и стоптанной обуви. Но это разве давка! Вот, помню, когда в институт ездили, вот это давка была! Новый корпус гуманитарных факультетов располагался на юго-западной окраине, в богом забытой новостройке, и ходил туда всего один маршрут общественного транспорта. Проседавшие брюхом до асфальта несчастные рогатые троллейбусы очень живо напоминали банки с селедкой-иваси, когда нескольким сотням спешивших в одно и то же время на лекции студентов удавалось в эти машины втиснуться. И считалось за счастье, если после поездки сохранялась на одежде хотя бы пара пуговиц…
Здание архива, серое и унылое, по фасаду занимало полквартала и ограничивалось выступающими в сторону проезжей части полукруглыми башнями, отчего в целом напоминало мрачные феодальные замки времен Гуго Капета, какими их изображают в штатовских псевдоисторических фильмах. Очевидно, проектировавший это сооружение архитектор либо был отчаянно влюблен в Средние века, либо являлся изрядным мизантропом. Сходство с цитаделью какого-нибудь лендлорда усиливалось почти полным отсутствием окон и узким, стрельчатой формы, центральным входом — только вместо закованного в тусклый металл ландскнехта с алебардой или, скажем, бородатого йомена с огромным, в рост человека, гибким луком, топтался там, в глубокой нише, неопределенного возраста малый в пятнистом армейском камуфляже и дымил вонючей отечественной сигареткой, сплевывая под ноги себе и прохожим. Ну, в этом мы от времен феодализма недалеко ушли. Можно сказать — там и сидим… Помню, этот страж ворот как-то не хотел выпускать меня из здания, когда я в очередной раз засиделся дольше обычного, мотивируя это тем, что он устал («Караул устал!» — объявил матрос Железняк депутатам Учредительного собрания и оное собрание разогнал) и ему «в лом за ключом бежать». «Бежать» ему до вахты, где хранились ключи, было при этом метра три. Таких людей встречается почему-то очень много именно среди охранников всех мастей. А впрочем, это вполне понятно: делать он ничего не умеет, жена дома пилит, футбол рекламой прерывают… В общем, мучается человек несказанно от ненужности своей и общежитейской неустроенности. А здесь — другое дело! Пост доверили, курточку выдали, как Буратине — сразу ощущается значимость личности и ее примат над всеми оными, через охраняемый этой личностью пост проходящими. И стоит добрый молодец — грудь колесом, ноги шире плеч — помойку какую-нибудь сторожит, комплексы свои реализует. Чем не средневековье? Ленин в каком-то смысле верно говорил, что Россия перепрыгнула из феодализма в социализм, минуя стадию капиталистического общества. Только забыл указать, что без этой стадии социалистическая явь от дремучего феодализма отличается только наличием метрополитена и атомной бомбы… И никуда нам от этой дикости и варварства не деться еще очень долго.
Во время учебы в институте я первое время занимался историей Северной Америки, точнее — историей гражданской войны между Севером и Югом. Тема — интереснейшая, а у нас о тех событиях никто ничегошеньки не знает, а если и знает, то исключительно по «Унесенным ветром». Книга замечательная, спору нет. Маргарет Митчелл — спасибо от лица человечества. Только пишет она в основном о судьбах отдельных людей, события же идут не более чем фоном, когда — занимательным, когда — трагичным, но именно — фоном. А между тем эти события и сами по себе достойны отдельного пристальнейшего беспристрастного изучения. Вот этим-то я и пытался заниматься два первых года обучения в институте.