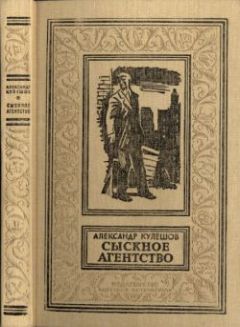Александр Кулешов - Пересечение
Белье, костюм, рубашка, даже ботинки оказываются как раз на меня, «У них что, картотека на всех своих агентов с точными размерами?» — спрашиваю себя.
И вдруг застываю — как я подумал? «Агентов»? Слово сказано впервые. Не ими, мной. Я — «агент». Правильно! А кто же я, почетный академик, член попечительского совета, добровольный активист этой «общественной гуманистической организации»? Да чего там! Все ведь ясно: и чей агент и какой… Так что не надо себя обманывать.
Выхожу из ванной чистый, выбритый, причесанный, благоухающий мылом, шампунем, одеколоном. Костюм не для вечерних приемов, но вполне приличный, не дешевка. Смотрюсь в зеркало. Конечно, синяки под глазами, щеки ввалились, бледный, но в общем вид сносный.
Парень все так же молча проводит меня на кухню, где старая повариха, тоже не раскрывающая рта, кормит меня пусть не изысканным, но обильным ужином. Я уже отвык от таких. Съедаю все, прошу еще, кое-что остается, съедаю остатки. Запиваю молоком. Пива не дали.
Парень сажает меня в свой спортивный «форд» и везет в город, в отель. Не тот фешенебельный, где мы жили с Известным режиссером за счет студии, но и не те клоповники, в которых я ютился. Вполне, вполне — три звездочки.
Он шепчется с портье, потом говорит мне:
— За номер и еду платим мы. Документов предъявлять не надо. Вот, распишитесь, — и протягивает мне конверт.
Я расписываюсь, заглядываю в конверт — там пятьсот долларов. Парень, не прощаясь, уходит, а я заваливаюсь спать. Забыл сказать, что уже три часа ночи, но в Голливуде ночь мало чем отличается от дня. Во всяком случае для отельных портье.
Проснувшись на следующий день едва ли не в полдень, ловлю себя на том, что не знаю, чем заняться.
Я страшно голоден. Спускаюсь в ресторан и съедаю такой завтрак, что даже у вышколенного метрдотеля глаза лезут на лоб.
Потом возвращаюсь в номер, читаю газеты, слушаю радио, смотрю телевизор, в промежутках дремлю.
Прихожу постепенно в себя, возвращаю себе человеческий облик. Американский гражданин!
Вечером выхожу на улицу, словно выздоровевший после долгой болезни человек.
Гуляю, осмелев, захожу в бар, хороший бар. Вызывающе глядя на бармена, заказываю дорогой коктейль, еще один. Но вовремя вспоминаю о предупреждении мистера Холмера и покидаю бар.
Потом забредаю в ресторан, тоже недешевый, в какой-то бурлеск…
Не думаю о переходе границы, мне страшно об этом думать.
Но одно могу сказать твердо — нет более четкой границы, чем та, что существует здесь между богатым и бедным. Вот уж граница так граница!
В барах замечаю женщин вполне определенной профессии. За это время я и думать о них забыл. Что ж, мистер Холмер посоветовал мне подобрать какую-нибудь, и деньги вроде есть. Но я тут же расстаюсь с этой мыслью. Деньги? Деньги надо беречь, и как я только мог их разбрасывать в этих барах, в этом ресторане — ведь в отеле за меня платят. Возвращаюсь в отель, иду в отдельный бар, пью, подписываю счет. В голове шумит. Ложусь спать.
Так проходит три дня.
На четвертый ни свет ни заря появляется мой опекун с отвратительной рожей. Все такой же «многословный», если б я не слышал его голоса, то решил, что он глухонемой или не знает английского. Он делает мне знак вставать. Осмелев, нарочно, чтобы досадить ему, долго моюсь, бреюсь, одеваюсь. И вдруг соображаю, что ссориться мне с ним не с руки. Вот надоест ему сейчас мое копанье, возьмет и уйдет. Заканчиваю свой туалет, как в ускоренной киносъемке, скатываюсь по лестнице. Уф, слава богу, ждет в холле. На его спортивном «форде» едем неизвестно куда. Долго. Наконец приезжаем на какой-то маленький частный аэродром. Таких полно в Америке. Стоят пять-шесть чьих-то личных самолетов, два-три спортивных.
Прямо на машине подъезжаем к белой «сесне», залезаем в кабину. Думаю, сейчас придет летчик. Черта с два! Этот удивительный парень сам садится за управление, прямо какой-то универсал. Взлетаем. Летим. Все время молчим. Постепенно начинаю дремать. Просыпаюсь от толчка. Оказывается, приземлились. На такой же маленький, затерянный в лесу аэродром. Смотрю на часы (я забыл сказать, что их мне дали вместе с костюмом, свои я давно заложил) — летели без малого два часа.
Выходим. Возле небольшого деревянного барака дремлет старик — сторож, наверное, и стоит спортивный «форд» — близнец оставленного в Голливуде. Садимся и едем. Куда?
Через час болтания и прыгания по лесной дороге останавливаемся перед глухими воротами в глухой стене, въезжаем и подъезжаем к одноэтажному дому. (Может, я того, но у меня впечатление, что мы приехали в ту же резиденцию, в какой принимал меня четыре дня назад мистер Холмер.)
Тот же длиннющий коридор, та же комната. Что за наваждение!
Опять сижу и жду, на этот раз недолго. Открывается дверь, и входит… нет, на этот раз не мистер Холмер, а высокий крепкий мужчина не первой молодости, усатый, в полувоенном костюме. Я встаю. Он машет рукой.
— Садитесь. Меня зовут Смит, вас — Боб. Здесь тренировочный лагерь. Принадлежит нашей организации. Готовим патриотов для выполнения благородных трудных заданий. О вашем — знаю. Соответственно и будете тренироваться. Инструктора у нас опытные. Подготовим хорошо. Обо всем, что здесь услышите и увидите, — никому. Подпишите обязательство о сохранении тайны (сует мне бумагу, я, не читая, подписываю).
Он жмет мне руку и уходит.
Какой-то широкоплечий малый в такой же полувоенной форме отводит меня в комнату, в которой мне суждено теперь жить. Нормальная комната, с туалетом и душем. Телевизора, радио, телефона нет. И еще — на окнах ажурные красивые решетки. Но решетки.
Сколько я прожил в той комнате, чем занимался, чему меня учили и кто — зачем сейчас вспоминать? Завтра, послезавтра я все это расскажу следователю. Все, что знаю. Немного, увы. Буду вспоминать все, что смогу, лишь бы поверили, лишь бы учли.
Хотя какое это имеет значение по сравнению с тем, что я совершил?
Какой суд оправдает за это? Никакой, ни людской, ни суд моей совести. Если была она у меня…
Я снова открываю глаза, выползаю из своего забытья. Я снова в сегодняшнем дне.
Обступившие меня кошмары прошлого расступаются, но им на смену приходят новые — усатые людские морды, оскаленные собачьи пасти, бесконечный лес, грязные ночлежки, кривые темные улицы чужих враждебных городов, презрительные взгляды, жалкая похлебка в общественных приютах… И страх, неотступный страх — уродливый призрак, танцующий возле меня. Гнилые разбитые черепки на полу — все, что осталось от былых желаний, от мечты, от надежд…
За железной дверью раздается скрип засова.