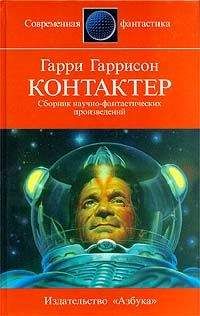Виктор Егоров - На железном ветру
Вдали чернела полоска леса. Закурив и оглядевшись, Михаил неторопливо зашагал через поле. Тропинка привела его в лес. Впрочем, лесом его можно было назвать лишь условно. Михаил привык к подмосковным лесам — плотным, густо заросшим подлеском и потому непроглядным. В этом лесу деревья стояли далеко друг от друга; лишенный листвы и хвойного подлеска лес проглядывался метров на триста и казался прозрачным.
Вскоре Михаил вышел к черной, заросшей мхом избушке. Тесовая крыша ее прогнулась — избушка напоминала старое животное с перебитым хребтом. Михаил заглянул в приоткрытую дверь — внутри было пусто. На полусгнившем полу валялись битые темные кирпичи. Все приметы точно совпадали с описанием, полученным в Москве. Михаил подобрал валявшуюся неподалеку сучковатую палку, отсчитал от крыльца пять метров вправо. Разгреб снег, сухую листву, потыкал палкой. В одной точке земля оказалась более рыхлой, чем вокруг. Быстро разгреб ее, увидел жестяную коробку. Снял крышку, вынул резиновый мешочек, достал из него пачку долларов. Мешочек вместе с коробкой положил обратно, засыпал землей, сверху прикрыл опавшей листвою, заровнял снег.
Деньги в тайнике оставил разведчик, побывавший здесь раньше. Сколько времени они лежали под землею — месяц или несколько лет — Михаил не знал. Во всяком случае доллары выглядели так, будто не покидали бумажника. Теперь с их помощью предстояло приобрести паспорт и выполнить задание.
На обратном пути зашел в захудалое фотоателье и сфотографировался для документа. Карточки фотограф вручил тотчас.
Трое суток прожил Донцов под кровом Липецких. Он занимал отдельную комнату на втором этаже. Свободного времени было достаточно, и Михаил использовал его для совершенствования в польском языке. С помощью толстого, похожего на псалтырь, словаря читал Мицкевича. Хозяев попросил говорить с ним по-польски.
Вечером подолгу беседовал с Тадеушем об искусстве, о жизни в Польше, об угрозе германского фашизма. Как-то спросил:
— А что, Тадеуш Янович, если бы выпало начать жизнь сначала, избрали бы тот же путь?
Липецкий усмехнулся тонко, уголками губ.
— Иными словами, вы хотели бы знать: удовлетворяет ли меня такая жизнь?
— Да, пожалуй, так.
Липецкий снял пенсне, долго протирал кусочком замши. Сказал с застенчивой грустью:
— А вы знаете, я как-то не задумывался над этим. Вот вам, если хотите, и ответ. Да, не задумывался. Но сейчас ваш вопрос заставил оглянуться... Кем бы я был, если бы не попал в плен, если бы не принял всей душою пролетарскую революцию? Был — не то слово, остался — вот верный глагол. Да, я бы остался где-то далеко внизу. Представляете себе: молодой человек с университетским образованием и куцыми эгоистическими идеалами продолжает торговые дела отца! Самодовольный сытый мещанин с лозунгом «Польска от можа до можа»... В накоплении денег, в заискивании перед более богатым, в заботах о том, чтобы не изменила жена, а дети копировали отца, — вся его жизнь, как у свиньи в ее корыте. Бррр! Ну нет, увольте.
— Действительно, — засмеялся Михаил, — вы нарисовали отталкивающую картину.
— И я рад, что не сделался одним из ее персонажей. У нас с Машей есть то, чего не получишь ни за какие сокровища: борьба за великие идеалы. Мы не только не участвуем в буржуазном свинстве, но противостоим ему. Вам здесь, конечно, легче — вы человек свежий. А я знаю господ буржуа, знаю их подноготную. Это смердящая помойка, прикрытая лакированным фасадом. Поверите ли, я с трудом удерживаюсь, чтобы не показать чувства гадливости, чтобы не побежать и не вымыть руки после рукопожатия этих господ, их высокопарных рассуждений о родине и нации... Даже простое сознание, что к тебе не прилипает дерьмо, — есть счастье.
Накаленный, проникнутый сарказмом тон Липецкого свидетельствовал о ненависти. Обнажая ее перед Донцовым, он как бы давал себе отдых от утомительной сдержанности.
— А вы спрашиваете: избрал ли бы я тот же путь?.. Не задумываясь. — Липецкий опять снял пенсне, покрутил меж пальцами, сказал устало: — Конечно, чем-то приходится поступаться...
Михаил понял — речь шла о детях. Детей у Липецких не было.
На третий день вечером Липецкий стремительно вошел в комнату Михаила.
— Есть новости! Некий молодой человек, Ян Цвеклинский, долго пользовался льготами, освобождавшими от призыва в армию. Но всему приходит конец. Недавно Цвеклинский получил извещение о том, что будет призван. Ввиду этого ему разрешили выезд во Францию сроком на месяц для свидания с родственниками. Однако три дня назад полиции стало известно, что родственники здесь ни при чем. Не желая служить в армии, парень попросту собирался удрать из Польши. Заграничный паспорт у него отобрали, а самого досрочно отправили в часть. Можете воспользоваться этим паспортом. Акт о его уничтожении уже составлен, осталось заменить фото. Решайте.
Михаил молчал. Дело осложнялось. Он рассчитывал на паспорт, не ограниченный столь малым сроком. Многое ли можно сделать за месяц? А торопливость не лучший помощник.
— Я вижу, вы не проявляете особой радости.
— Видите ли, Тадеуш Янович, думаю — в Париже мне придется прожить больше месяца.
— Что же делать? Мой чиновник из полиции клянется и божится, что в ближайшее время никаких иных возможностей у него не будет.
— Если так, давайте воспользуемся паспортом Цвеклинского. Ждать нельзя.
— Вот что, — оживился Липецкий, — мы все сделаем наилучшим образом. — Я вам дам адрес одной моей знакомой в Париже. Она содержит пансионат. Это в квартале Сен-Дени. Полагаю, у нее вы сможете жить даже без документов, — скажете, что прибыли от меня.
— Кто она?
— Эмма Карловна Зингер. Имя и фамилия классически немецкие, но она не говорит по-немецки и по существу — русская эмигрантка. Родилась в Казани в семье обрусевших немцев, дочь драгунского полковника. Вышла замуж за офицера. В двадцать первом году оба прибыли в Варшаву. Муж заболел и вскоре умер, положение у Эммы Карловны было ужасное — нищая, хоть на панель ступай. Я ей тогда основательно помог. Не ради дела, а из обычной жалости. Уж очень была она беспомощна. Кстати, вот в этой самой комнате Эмма Карловна прожила около трех месяцев. Вышла вторично замуж, уехала во Францию. Но лет пять назад муж погиб в железнодорожной катастрофе. Мы изредка переписываемся. Для содержательницы пансиона она сравнительно порядочная женщина. Добра, сострадательна. Думаю, когда она узнает, что вы мой хороший знакомый, то посодействует в случае нужды.
— Что ж, это не плохо, — согласился Михаил.
— Итак, с завтрашнего дня вы становитесь паном Цвеклинским, — улыбнулся Тадеуш.
— При условии, что послезавтра я покину пределы Польши. Согласитесь: поляк, едва говорящий по-польски, — явление для Варшавы не совсем обычное.