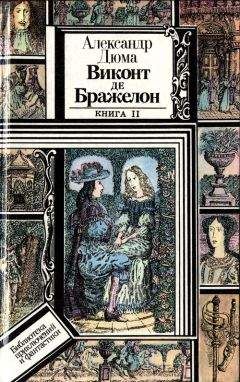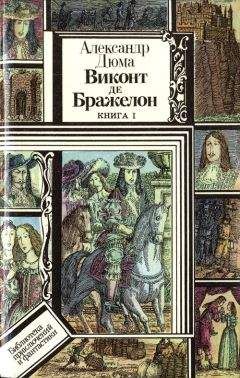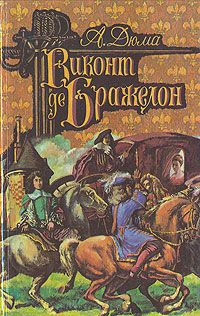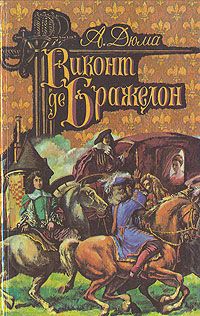Александр Дюма - Виконт де Бражелон или десять лет спустя. Том 3
Безмо велел бить в барабан и звонить в колокол, предупреждая по заведенному здесь порядку о том, чтобы все входили в свои помещения, дабы избежать встречи с таинственным узником. Затем, когда проходы были расчищены, он сам подошел к карете за арестантом. Портос, верный приказу, продолжал держать мушкет у груди пленника.
– А, вот вы где, негодяй! – воскликнул Безмо, увидев короля. – Хорошо, хорошо!
И тотчас же, велев королю покинуть карету, он повел его в сопровождении Портоса, не снимавшего маски, и Арамиса, снова ее надевшего, во вторую Бертодьеру и открыл дверь той самой камеры, в которой на протяжении восьми лет томился Филипп.
Король вошел в каземат без единого слова. Он был растерян и бледен.
Безмо закрыл дверь, дважды повернул ключ в замке и, подойдя к Арамису, прошептал ему на ухо:
– Сущая правда, он очень похож на его величество, но все же не так, как вы утверждаете.
– Так что вас уж, во всяком случае, на такой подмене не проведешь?
– Что вы, что вы!
– Вы бесценный человек, дорогой мой Безмо, – сказал Арамис. – А теперь освобождайте Сельдона.
– Верно, я и забыл… Я сейчас отдам приказание…
– Ба! Вы успеете сделать это и завтра.
– Завтра? Нет, нет, сию же минуту! Избави боже затягивать это дело.
– Ну, идите по вашим делам, а меня ожидают мои» Но, надеюсь, вы поняли все до конца, не так ли?
– Что я должен понять?
– Что никто не войдет к узнику без приказа его величества – приказа, который привезу вам я сам.
– Да, прощайте, монсеньер.
Арамис вернулся к своему товарищу.
– Поехали, друг Портос, в Во! И поскорее.
– До чего же чувствуешь себя легким, когда верно послужишь своему королю и тем самым спасешь свою род пну, – засмеялся довольный Портос. Лошадям нечего будет тащить. Поехали.
И карета, освободившись от пленника, который действительно мог казаться Арамису чрезмерно тяжелым, миновала подъемный мост, который тотчас же поднялся за ней снова, и оказалась вне пределов Бастилии.
Глава 45.
НОЧЬ В БАСТИЛИИ
Страдание в этой жизни соразмерно с силами человека. Мы отнюдь не собираемся утверждать, что бог неизменно соразмеряет ниспосылаемое им человеку несчастье с силами этого человека; подобное утверждение было бы не вполне точным, поскольку тем же богом дозволена смерть, являющаяся единственным выходом для души, которой невмоготу пребывать в оболочке тела Итак, страдание в этой жизни Соразмерно с силами человека Это значит, что при равном несчастии слабый страдает больше, нежели сильный. Но что же придает человеку силу? Закалка, привычка и опыт. Мы не станем утруждать себя доказательством этого; это аксиома как в отношении нашей душевной жизни, так и нашего естества.
Когда молодой король, потеряв всякое представление о действительности, растерянный и разбитый, понял, что его ведут в одну из камер Бастилии, он решил, что смерть во многих отношениях схожа со сном, что и она полна разнообразных видений. Он вообразил, будто его кровать в замке Во провалилась сквозь пол и вслед за тем он умер; он вообразил, что он это покойный Людовик XIV, продолжающий видеть все те же ужасы, невозможные для него в жизни и называемые низложением с трона, тюрьмой и всевозможными оскорблениями некогда всемогущего государя.
Наблюдать в качестве призрака, сохраняющего ощущение своего тела, свои собственные мучения, томиться, тщетно стараясь постигнуть непостижимую тайну, где действительность, а где лишь ее подобие, видеть все, слышать все, все понимать» отчетливо помнить мельчайшие подробности своих последних минут – разве это не пытка, пытка тем более невыносимая, что она может быть вечною?
– Не есть ли это то самое, что зовется вечностью, адом? – шептал Людовик XIV в то мгновение, когда за пим закрылась дверь, запираемая Безмо.
Он не проявил ни малейшего интереса к окружающей его обстановке и, прислонившись спиной к стене, окончательно проникся мыслью о том, что он умер; он зажмурил глаза, чтобы не увидеть чего-нибудь еще худшего.
«Но все-таки как же произошла моя смерть? – спрашивал он себя, поддаваясь безумию. – Не спустили ли эту кровать при помощи какого-нибудь приспособления? Нет, нет – когда она начала опускаться, я не почувствовал ни сотрясения, ни толчка… А не отравили ли меня во время обедав или, кто знает, не обкурили ли отравленною свечой, как мою прабабку Жанну д'Альбре?»
Вдруг холод камеры пронизал плечи Людовика.
«Я видел, – продолжал – он, – я видел моего отца мертвым на той самой кровати, на которой он всегда спал; на нем было королевское одеяние. Это бледное лицо с заострившимися чертами, эти застывшие, некогда столь подвижные руки, эти вытянутые, похолодевшие ноги, – нет, ничто не говорило о сне, полном видений. А ведь бог должен был бы наслать на него целые полчища снов, на него, чьей смерти предшествовало столько других, ибо сколь многих он сам послал на смерть!
Нет, этот король по-прежнему был королем, он царил на смертном одре так же, как на своем бархатном троне. Он не отрекся от свойственного ему величия. Бог, ниспославший на него кару, не может наказывать и меня, не сделавшего ничего противного его заповедям».
Странный шум привлек внимание молодого человека. Он посмотрел и увидел на каминной доске под громадной грубою фреской, изображавшей распятие, огромную крысу, грызшую хлебную корку и смотревшую на нового постояльца камеры умным и любознательным взглядом.
Король испугался: крыса вызвала в нем омерзение. С громким криком бросился он к дверям. И благодаря этому вырвавшемуся из его груди крику Людовик понял, что он жив, не потерял разума и что чувства его вполне естественны.
– Узник! – воскликнул он. – Я, я – узник!
Он поискал глазами звонок.
«В Бастилии нет звонков! Я в Бастилии! Но как же я сделался узником?
Это все, конечно, Фуке. Пригласив в Во, меня заманили в ловушку. Но Фуке не один… Его помощник… этот голос… это был голос д'Эрбле, я узнал его. Кольбер был прав. Но чего же от меня хочет Фуке? Будет ли он царствовать вместо меня? Немыслимо! Кто знает?.. – подумал Людовик. Кто знает, быть может, герцог Орлеанский, мой брат, сделал со мною то, о чем всю жизнь мечтал, замышляя против моего отца, мой дядя. Но королева?
Но моя мать? Но Лавальер? О, Лавальер! Она окажется во власти принцессы Генриетты! Бедное дитя, ее, наверное, заперли, как заперт я сам. Мы с нею навеки разлучены!»
И при одной этой мысли несчастный влюбленный разразился криками, вздохами и рыданиями.
– Есть же здесь комендант! – с яростью вскрикнул король. – Я поговорю с ним, я буду звать.
Он стал звать коменданта. Никто не ответил. Он схватил стул и стал яростно колотить им в массивную дубовую дверь. Дерево, ударяясь о дерево, порождало мрачное эхо в глубине переходов и лестниц, но ни одно живое существо так и не отозвалось.
Для короля это было еще одним доказательством того полного пренебрежения, которое он встретил к себе в Бастилии. После первой вспышки неудержимого гнева, чуточку успокоившись, он заметил полоску золотистого света: должно быть, занималась заря. После этого он опять принялся кричать, сначала не очень громко, затем все громче и громче. И на этот раз кругом все было безмолвно.
Двадцать других попыток также не привели ни к чему.
В нем начала бурлить кровь; она бросилась ему в голову. Привыкнув к неограниченной власти, он содрогнулся, столкнувшись с неповиновением подобного рода. Гнев его все возрастал. Он сломал стул, который был для него чрезмерно тяжелым, и, пустив в ход один из его обломков, стал бить им в дверь, как тараном. Он бил с таким усердием и так долго, что лоб его покрылся испариной. Шум, который до этого он поднимал, сменился несмолкающим грохотом. Несколько приглушенных и, как показалось ему, отдаленных криков ответило ему с разных сторон.
Это произвело на короля странное впечатление. Он остановился, чтобы прислушаться. Это были голоса узников, еще так недавно – его жертв, теперь сотоварищей. Эти голоса, словно легчайшие испарения, проникали сквозь толстые сводчатые потолки, сквозь стены. Они громко обвиняли того, кто шумел, как их вздохи и слезы без слов обвиняли, должно быть, того, кто лишил их свободы. Отняв у столь многих свободу, он появился здесь, между ними, чтобы отнять у них сон.
От этой мысли он едва не сошел с ума. Она удвоила его силы, и обломки стула опять были приведены в действие. Через час Людовик почувствовал какое-то движение в коридоре, и сильный стук в его дверь прекратил удары, которыми он сам осыпал ее.
– Вы что, спятили, что ли? – прикрикнул на него кто-то, стоявший за дверью. – Что это с вами стряслось этим утром?
«Этим утром?» – подумал изумленный король.
Затем он вежливо обратился к своему незримому собеседнику:
– Сударь, вы – комендант Бастилии?
– Милый мой, у вас мозги набекрень, – отвечал голос за дверью, – но все же это не основание производить такой грохот. Перестаньте шуметь, черт возьми!