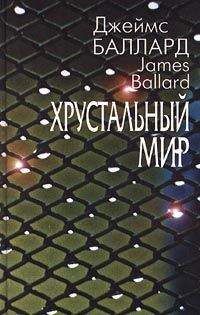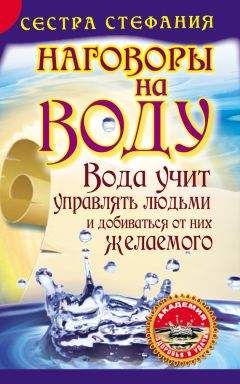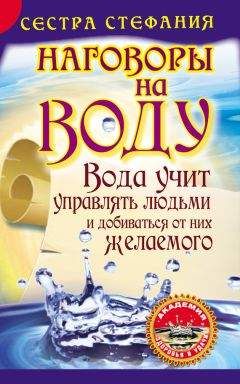Виктор Потиевский - Мертвое ущелье
Они уже обжились здесь. Оборудовали блиндаж всем необходимым. Пищу разогревали на спиртовках, чтобы не было дыма и даже его запаха. Днем и ночью дежурили, наблюдая за местностью.
Прошлая ночь была лунной и холодной, и всю первую ее половину выли волки. Крюгер, хорошо вооруженный, не боялся их. Но их было много. Сначала выли одни, потом откликались другие,— он слышал две или три стаи. Они выли протяжно, громко и угрожающе, как полные хозяева этой тайги. Их вой заполнял весь лес, и казалось, он проникает не только в блиндаж, но даже за ворот кожаной куртки Крюгера. И опять ледяной озноб непроизвольно пробегал по его позвоночнику.
Во второй половине дня слабый ветер, который дул начиная с рассвета, усилился, стал порывистым, и через два часа загудело и забурлило море. С вершины холма было видно, как высокие валы накатывались на берег, с грохотом разбивались о камни и расшвыривали по береговым скалам снежно-белую пену. В этом тяжелом грохоте, все время нарастающем и раскатистом, Крюгер слышал неуемную мощь чужого моря, холодного, враждебного и незнакомого, несмотря на долгое его изучение по картам и документам.
Ему иногда хотелось уйти в блиндаж и заткнуть уши, чтобы не слышать этого грозного гула, этого откровенного вызова, который море бросало ему. Берег, мрачный и враждебный, лес, холмы, каждое дерево и даже волки — все будто ждало своего часа, чтобы обрушить на него, Крюгера, свою ненависть и дикую силу. Но он — солдат фюрера и нации, и он умел в минуты тревог напомнить себе об этом. Он подавлял в себе тревогу, продолжая наблюдать за окрестностью и вслушиваться в звуки моря, ветра и леса, пытаясь уловить что-то постороннее, опасное для него сиюминутной угрозой — плеск русского корабля или шорох шагов русского солдата.
Единственное и самое главное, чего он ждал, это приказа. Тогда он, наконец, сможет сделать то, для чего его сюда высадили,— дать радиопеленг. И сразу же покинет этот скальный берег и уедет в Берлин, в отпуск, давно обещанный ему командованием, отпуск и погоны оберштурмфюрера, которые он уже давно заслужил. Но сначала надо выполнить задание. Он ждал радиограммы со дня на день.
6. СТРАННЫЕ СЛЕДЫ
Дни стояли теплые, хотя и ветреные. Дождей прошло мало, и было еще довольно сухо в лесу, но старик Лихарев занемог. Обычно это случалось с ним в слякотную мокрую погоду, когда дождь поливал неделю-другую подряд, как правило, поздней осенью, в октябре. Сразу начинало ломить суставы, все они ныли, как больные, разбалованные дети, и Ивану Васильевичу ничего не оставалось, как слечь. Несколько дней он обычно лежал пластом. С большим трудом, превозмогая боль, поднимался раз в день по самой необходимости. Отлеживался и лечился.
Это было у него много лет, каждую осень и весну. Он, годов этак двадцать назад, ездил к самым лучшим врачам в Архангельск. Нашли они у него какую-то мудреную болезнь, он даже где-то записал ее нерусское название. Еще тогда врачи удивлялись, что он ходит по тайге, что не устает к вечеру, что весной и осенью отлеживается всего только по пять — семь дней и снова встает на ноги. А один профессор сказал ему откровенно то, чего не решались сказать другие: болезнь эта неизлечима, и с каждым годом ему будет все хуже, и если он не приедет надолго лечиться в Архангельск, через два-три года совсем не встанет с постели...
Иван Васильевич, конечно, расстроился тогда. Уехал к себе в тайгу. И по совету одного своего друга-лесника стал все лето ходить босиком во дворе и в доме. Парился в своей баньке дважды в неделю с можжевеловым и крапивным веничками. И главное — весной и осенью, особенно, когда болезнь прижимала его к кровати, ежедневно, по нескольку раз в день, натирал суставы. Настаивал водку на трубках одуванчика, срезанных во время цветения, пользовался и настоем красного мухомора — втирал все это в больные места. И болезнь отступила. Прошло уже не два года, а больше двух десятков лет, но лихоманка так и не смогла одолеть его. Даже наоборот — все меньше он отлеживался каждый раз, да и сами суставы почти перестали вспухать.
Старик не грешил на врачей и понимал, что не они ошиблись, а он себя, если не вылечил, то поправил своим упорством, да и не совсем обычным, и, может быть, незнакомым для врачей лечением.
Сегодня он лежал пластом. Собаки были здесь же, в избе. Помор поутру всегда любил ткнуть спящего хозяина в щеку холодной и мокрой мочкой своего черного носа. Ему было четыре года — самая хорошая возрастная пора для собаки. Его мать, старая охотничья лайка, ощенилась тогда на берегу моря, когда старик Лихарев заготавливал в тех краях сено. Он так и назвал самого крупного щенка — Помор.
Белка тоже была рядом. Она лежала на полу, и когда старик останавливал на ней взгляд, преданно виляла хвостом.
Прежде обе лайки жили во дворе, ночевали в двух своих будках, но последние три года Иван Васильевич очень скучал в одиночестве. И почти постоянно пускал собак в избу.
Начинало светать, надо было затопить печь, но тупая боль сковала суставы, и старик Лихарев пока не поднимался. Дрова были уже сложены у печки. Он, предчувствуя заранее, что сляжет, всегда готовился к этому: приносил в избу запас воды и дров, доставал солонину и вяленое мясо из холодной кладовой, все подготавливал, чтобы почти не выходить из дома.
Сейчас он взял закрытую темную бутыль с настоем, налил его на руку и долго втирал в колени, в голе-ностопы, во все суставы рук и ног.
За окнами забрезжил рассвет, и вдруг Белка настороженно вскочила и, злобно рыча, заметалась от двери к окну. Помор замер у двери и тоже глухо и злобно рычал. Иван Васильевич приподнялся на локте, вгляделся через окно в рассветный полумрак. Ничего подозрительного не заметил. Жилые две комнаты и кухня были как бы на втором этаже — весь низ дома занимал сарай. Внимательно, по участкам, Иван Васильевич оглядел окрестность. Двор и поляна впереди избы были пусты.
Если собаки рычат и беспокоятся, значит, кто-то ходит поблизости — человек или волки. Но собаки только рычали, не лаяли. Пожалуй, еще сами определенно не поняли, кто же там. Видимо, звук услышали, но далеко, потому и не разобрались.
Больше отлеживаться нельзя было, старик Лихарев ни на минуту не забывал, что живет он у моря, у самого края великой войны. Кряхтя, встал, прикрикнув на собак, чтобы умолкли, взял карабин. Подошел к другому окну, приотворил форточку, прислушался.
За окном тонко подвывал ветер, идущий с моря. Иван Васильевич долго вслушивался, но так и не услышал ничего подозрительного. Обе лайки, подчиняясь хозяину, немного притихли, но не успокоились. Очень негромко, но продолжали злобно рычать и стояли в напряженных позах. Белка — у окна, Помор — у двери.