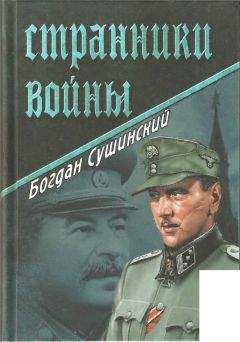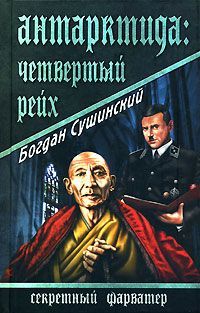Богдан Сушинский - Черный легион
Гитлер взглянул на него с благодарностью. Скорцени был одним из первых, кому он доверился с этой идеей, и первым, кто стал его единомышленником. А ведь даже ему самому затея представлялась рискованной и слишком авантюрной.
— А в результате?.. В результате папа и его кардиналы предали Муссолини! — буквально взорвался фюрер. Он выпалил это с таким эмоциональным всплеском, словно не расслышал слов Скорцени и решился сообщить ему, а главное, Штуденту, сногсшибательную новость. — Именно так: предали! Вражеская агентура использует иностранных послов в Ватикане в качестве резидентов. Под сенью Святого престола, в самом центре Рима, плетутся заговоры против всей оси Берлин — Рим — Токио. Можем ли мы спокойно взирать на все это?!
Гитлер подошел к столу и дрожащими пальцами раздвинул стопку лежащих на нем бумаг. Однако они ему явно не понадобились.
Скорцени и Штудент остановились по другую сторону стола и, замерев по стойке «смирно», ждали его решения.
— Скорцени, вам, лично вам, поручается разработка всей этой операции.
— Слушаюсь, мой фюрер.
— Совершенно секретной операции, Скорцени.
— Понимаю, мой фюрер.
— Солдаты парашютного корпуса генерала Штудента будут в вашем распоряжении. Генерал выделит вам столько парашютистов, сколько понадобится.
— Мои коммандос проверены во многих операциях, — негромко отозвался генерал. И Скорцени почувствовал, что от волнения ему перехватило горло. — Если понадобится, они готовы…
— Используйте своих фридентальских курсантов, штурм-баннфюрер, — не стал выслушивать генерала Гитлер. — Любых агентов и диверсантов, где бы и в чьем расположении они не находились. Но все это на последнем этапе. Только на последнем. Пока же операция должна разрабатываться в строжайшей тайне. Кроме нас о ней будут знать лишь Гиммлер, Кальтенбруннер и Шелленберг. Они окажут вам всяческую поддержку. При этом можете привлекать специалистов по Италии. Но делайте это крайне осторожно, не раскрывая истинных замыслов.
— Будет выполнено, мой фюрер, — невозмутимо заверил Скорцени.
Гитлер оторвал взгляд от стопки бумаг и внимательно посмотрел на штурмбаннфюрера и генерала, словно пытался выяснить, насколько серьезно их стремление действительно выполнить это адски сложное задание.
— До конца года папа римский должен быть в Берлине. До конца года, штурмбаннфюрер Скорцени. И еще… Запомните: если группу постигнет неудача… Вы предстанете перед всем миром как один из руководителей диверсионной службы рейха, решивший действовать на свой страх и риск, без согласия бывшего руководства страны.
— Само собой, мой фюрер. Я готов был к этому еще при освобождении Муссолини.
78
— Что, господин подпоручик, судьба решила блефовать?
Беркут пришел в себя минут пять назад, но до сих пор ему казалось, что в камере он один. Ни движения, ни постороннего дыхания… Откуда же этот голос?
— Я уж думал, что придется досиживать с покойничком. А ведь мечтал свидеться с вами. Правда, не здесь. И в другом качестве. Но тут уж — как судьба…
Незнакомый хриплый голос.
Лейтенант уперся руками в цементный пол и с трудом, с огромным усилием, отжался, как сотни раз отжимался еще в детстве, тренируя мышцы по методу японских мастеров джиу-джитсу, как учил охотник Дзянь. Ох и жесток же он был в своем учительском раже!
Беркут вновь уперся кулаками в пол, явственно ощущая, что руки изодраны в кровь, и, отжавшись, попытался осмотреться. Его вдруг охватило такое ощущение, словно он возвращался из небытия. А ведь какие страшные дни пришлось пережить ему. Какие страшные дни…
Его били, он терял сознание, приходил в себя, чтобы выносить жесточайшие побои, и вновь впадал в небытие. Так было на холме у костра. Потом в спецмашине Штубера, где над ним измывался фельдфебель Зебольд, которого он запомнил еще со времени своего посещения подольской крепости. Затем во дворе какого-то дома — он даже не понял, где это происходило. И лишь в гестапо с ним, наконец, попытались поговорить, задать какие-то вопросы. В остальных случаях просто били.
Вот только ни на один из вопросов он не ответил. Никаких особых тайн он не знал, его ответы уже никому не смогли бы навредить, но Беркута вдруг охватило какое-то осатанение. Упрямство и адское терпение — вот все, что он мог противопоставить издевательствам врагов, своему собственному бессилию. Жаль, что некому отдать ему должное: держался-то он как следует.
…Да еще был тот разговор с Рашковским, после которого за него вдруг снова взялись гестаповцы.
— Эй, скажите: это камера гестапо?
— Полицейского управления, сударь. Но легче вам от этого не станет. Как, впрочем, и мне.
— Похоже, что в этот раз они особенно постарались.
— Что вы хотите: провинциальные мерзавцы.
Громов снова прижался щекой к цементному полу. Его леденящая успокоенность хоть немного охлаждала иссеченное, полыхающее болью тело. Нужно отлежаться, прийти в себя. Нужно собраться с силами.
«Собраться с силами…» Интересно, ради чего? Дурацкий вопрос. Ради жизни, борьбы. Ради того, чтобы умереть, «как подобает офицеру».
— А ведь я сам охотился за вами, лейтенант Беркут. Недолго, правда, не успел… Кто бы мог подумать, что свидеться придется в следственной камере полиции?
Человек сидел где-то у него за спиной. Оглянувшись, Андрей только сейчас с трудом разглядел его смутно вырисовывающуюся во мраке фигуру.
— Вы, говорят, из кадровых? Отец, дед наверняка служили в царской армии или в Белой гвардии?
— Это допрос?
— Бросьте, лейтенант. В подсадных у полиции не числюсь.
— Из белогвардейцев, что ли? — устало, с болью выдохнул Беркут.
— Бывший семнадцатилетний прапорщик, а потом сразу поручик Добровольческой армии Розданов. Присяге не изменял. Хотя многие господа офицеры, как провинциальные мерзавцы, подались в услужение большевикам. Пешком добрался до Дона, до западной окраины, тайно прошел всю Польшу, ранен при переходе немецкой 1раницы, но до услужения не пал.
— Как же не пал? Пал все-таки. У немцев на услужении, судя по всему…
Глоточек воды. Если бы вместо словесной тирады сокамерник облагодетельствовал его хотя бы глоточком. Это было бы по-человечески. Независимо от того, кто он и как попал сюда.
— Чепуха-с. У немцев я тоже служил России. Только России. Хотя в чем-то вы, несомненно, правы… Офицер, оставшийся без солдат и без Родины и выдворенный на чужбину… Это уже не офицер, а презренный ландскнехт. Нужно было пойти под знамена генерала Власова — вот что я вам скажу. А еще лучше — атамана Краснова.