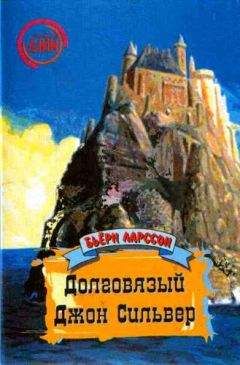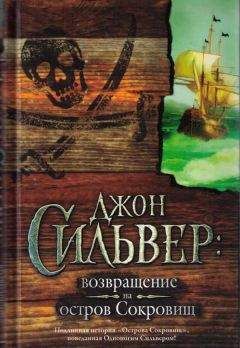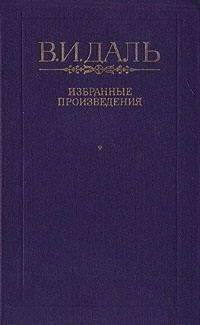Густав Эмар - Росас
— Пора, негодный! — отвечала она с улыбкой.
— Луис там!
— А я здесь!
— Ия также, мне остается только взяться за вас.
— Не за меня только! — улыбнулась донья Эрмоса.
— Хорошо. Священник здесь, ему можно остаться не более десяти минут.
— Почему?
— Потому что пока он остается, карета должна стоять у дверей.
— Ну так что же?
— Ну, может пройти какой-нибудь патруль, карета привлечет его внимание, он станет следить и…
— Ах, да, да, я все понимаю… Идем, Мигель, но… — прибавила она, опираясь на спинку кресла.
— Но что!
— Я не знаю… Я хотела бы посмеяться над собой, но не могу. Я не понимаю, что чувствую в своем сердце, но…
— Идем, Эрмоса!
— Идем, Мигель!
Молодой человек подал руку своей кузине и повел ее в гостиную, где их ждали дон Луис, одетый во все черное, и священник.
Дон Луис был бледен и встревожен: его сердце также сжималось в предчувствии какой-то беды. Священник, предупрежденный доном Мигелем о необходимости как можно скорее кончить церемонию, для которой все было приготовлено заранее, тотчас же приступил к самому важному акту своей священной службы.
В гостиной находилось только шесть человек: священник, новобрачные, дон Мигель, Хосе и Лиза.
В эту эпоху убийств и измен надо было обладать большим мужеством тем священникам, которые остались незапятнанными и, следовательно, были внесены в списки осужденных и вынуждены были скрываться, чтобы рискуя своей жизнью тайно исполнять обязанности их сана.
Святой отец, приведенный доном Мигелем, давно знавшим его, отвечал на предложение молодого человека одним словом:
— Идем!
Когда молодой человек хотел вложить ему в руку кошелек, полный золота, он тихонько оттолкнул его и сказал Мигелю с кроткой и печальной улыбкой:
— Таких вещей не делают за деньги, брат мой, я солдат Христа и исполню свой долг, что бы ни случилось со мной потом.
Спокойный, полный достоинства и с улыбкой на лице, вошел он в этот дом, при выходе из которого, быть может, его ждала страшная смерть.
Церемония началась, она была проста, но величественна.
Священник произнес молитву, задал тот вопрос, ответ на который скрепляет судьбу супругов и за пределами жизни и на который ни одни человеческие уста не могут ответить без трепетного биения сердца. Протокол церемонии был подписан священником, слугами и свидетелями — дон Луис и донья Эрмоса были соединены навеки, и никакая человеческая власть отныне не могла разорвать на земле те узы, которые были заключены на небе.
Молодые супруги вздохнули с облегчением, при нежном пожатии их рук, их лица, бледные за минуту до этого, окрасились живым румянцем: счастливое будущее открывалось перед ними.
Едва, по окончании церемонии, донья Эрмоса успела обнять дона Луиса, плакавшего от радости в ее объятиях, как дон Мигель подошел к Хосе.
— Ваша лошадь оседлана? — шепнул он старому слуге.
— Да.
— Мне она нужна на час!
— Хорошо.
И он отошел, не произнеся более ни слова. Подойдя к донье Эрмосе, дон Мигель взял ее за руку и ввел в кабинет.
— Священник уходит, и я также! — сказал он ей прямо.
— Ты?
— Да, мадам Бельграно, я, потому что я осужден не быть спокойным нигде для того, чтобы ваш супруг был спокоен в Монтевидео.
— Что такое, Боже мой! Что такое! Не обещал ли ты нам, что останешься с нами до самого отъезда!
— Да, и вот именно из-за этого обещания я и должен уйти немедленно. Послушай, ты знаешь, что мы условились сесть в лодку у Бака, потому что никто не догадайся наблюдать в этом месте. Дуглас будет ждать нас между девятью и десятью часами в одной из хижин, находящихся там, чтобы в случае какого-нибудь непредвиденного обстоятельства, мы могли изменить свой план. Поскольку этот шотландец пунктуален, как англичанин, — а этим все сказано, — я уверен, что через четверть часа он будет в хижине, потому что скоро пробьет девять часов. Раньше чем через час я вернусь. В это время Тонильо вместо кучера отвезет священника, затем он вернется сюда верхом, ведя мою лошадь на поводу, чтобы я мог уехать после отъезда Луиса.
— Мы с Луисом отправимся туда пешком.
— Пешком?
— Да, потому что мы пойдем через виллы Сомельеры и Бросны, это сократит нам дорогу, а затем пройдем взморьем, где так же безопасно, как в Париже или Лондоне.
— Да, да, так действительно лучше, мне кажется, — отвечала донья Эрмоса, — но вы возьмете с собой Хосе и Тонильо — я этого требую.
— Нет, мы пойдем одни — предоставь мне решать самому.
— Мигель!
— Прошу тебя, Эрмоса, не настаивай: слишком много людей могут возбудить внимание и навлечь на себя подозрения, два же решительных человека пройдут всюду.
— Ты хочешь этого?
— Так надо, Эрмоса!
— Пусть будет так, — прошептала она, вздохнув, — но ты мне отвечаешь за Луиса?
— Своей головой! — рассмеялся он в ответ.
— Ты все смеешься, Мигель! — сказала она с нежным упреком.
— Кто знает, дорогая кузина, быть может, я смеюсь для того, чтобы не плакать.
— О Мигель, как ты добр! Ведь тебе мы обязаны нашим счастьем! — проговорила она, сжимая его руку.
— Мы поговорим об этом после, — отвечал он, поднося ее руку к своим губам, — а теперь нам надо расстаться: я только тогда успокоюсь, когда карета уедет отсюда.
— Идем тогда.
— Идем!
И они встали с софы, на которой сидели.
— Ты захватил оружие?
— Да, будь спокойна. Поди проститься со священником, он и так уже слишком долго остается здесь.
Дон Мигель и донья Эрмоса вернулись в гостиную.
Минуту спустя дон Луис со своей молодой женой проводили до самых дверей на улицу достойного пастыря, без колебаний рискующего своей жизнью для того, чтобы освятить их союз.
В то самое время, когда карета понеслась по направлению к городу, а дон Луис тщательно запирал дверь на улицу, дон Мигель на лошади Хосе выехал за ограду и помчался полным галопом, тщательно закутавшись в свое пончо и беспечно напевая вполголоса одну из тех песенок, столь дорогих для гаучо, напев которых всегда однообразен, как бы не изменялись их слова.
ГЛАВА XXV. Где выступает на сцену, хотя и немножко поздно, новое лицо
Дон Мигель не сказал правды своей кузине или, по крайней мере, скрыл от молодой женщины, тревогу которой он хорошо заметил, часть правды. Он сам был беспокоен: тайная тоска сжимала его столь твердое и решительное сердце, он чувствовал печаль, не сознавая сам, почему. Было ли это предчувствие близкого несчастья или тревога за своего друга, которого он любил как брата и с которым боялся больше не встретиться, — он не мог разобраться в этом, его предчувствия причиняли ему страдания.