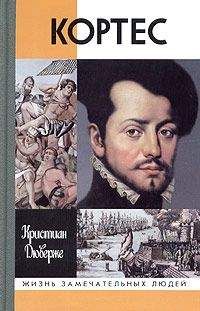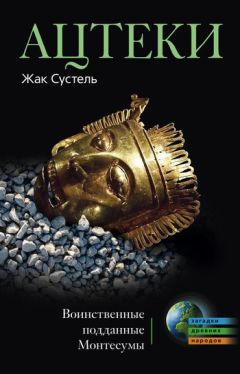Николай Романов - Встреча с границей
Я не мог оторваться от фотографии. Так защемило сердце, так захотелось побывать дома, потолкаться среди ребят, обнять Луку, выведать у него все комсомольские новости...
— Ты что задумался, Колюша? Не скрывай от матери-то, не скрывай. Может, не снег виноват, а поранили тебя на той границе?
«Поранили, мама, да еще как поранили! — мысленно отвечал я ей. — В самое сердце. Такая кутерьма, такая неразбериха на душе, хоть волком вой... Надо же было тебе, мама, разбередить эту рану». И вот мои мысли снова там, на границе. «Нет, не в Ливадию и даже не домой поеду я отсюда, а на свою заставу. Не всегда человек спешит туда, где легко и весело. Так уж устроена жизнь, мама. Тебя я повидал, а с ребятами — как-нибудь потом...»
Три дня гостила мама. Ночевала у тети Маши, а дневала у меня. Иван Прохорович предъявил ей все рентгеновские снимки, изложил историю болезни, показал, как мы занимаемся физкультурой, и дал заверение, что через одну-две недели буду как новый.
Но перед самым отъездом она снова загрустила:
— Может, теперь освободят тебя от службы после болезни?
— Ну что ты, мама, разве я похож на инвалида?
— Тогда хоть на побывку попросись. Одна я, совсем одна, Колюша. — Она передохнула, провела обеими ладонями по лицу, точно умывалась. — Уж больно редко писать-то стал, страсть как редко. А ведь я только письмами и живу. По праздникам разложу их на столе, перечитаю заново, наплачусь вволю, и вроде полегче станет. В одном уж очень хорошо ты про эти проклятые горы написал. Я его все слезами залила, теперь и букв разобрать нельзя.
— Ну зачем же так, мама?
— Одна я, Колюшка, совсем одна, — обреченно повторила мама. — У каждой избы то детвора звенит, то взрослые ругаются, то скотина мычит. Всем завидовать стала. Днем на работе да на людях еще туда-сюда, а ночь придет, и конца-краю ей нет. Береги себя, Колюша. Не дай бог, что случится. Чего мне одной-то делать.
ЛЮБА
В палату вошла тетя Маша, остановилась, подбоченилась и не сказала, а, скорее, пропела:
— Ивано-ов, к телефо-ону!
— Разыгрываете, тетя Маша?
— Стара, милый, для таких игрушек. К телефону, тебе говорят!
— К какому телефону?
— В кабинете у Ивана Прохоровича.
— Теть Маша...
— Да что ты на меня уставился? Быстрее! Ждут же! — легонько толкнула меня в спину няня.
Иван Прохорович поднялся из-за стола:
— Одно условие: не волноваться! Иначе разъединю.
— Кто меня? — почти заикаюсь я от волнения.
— Из отряда, с квартиры полковника Корнилова.
Врач вышел. Я нерешительно взял трубку. Рука дрожала.
— Я слушаю!
— Кто? — переспросили в трубке. Голос был незнакомый. — Коля, ты? Это я, Люба.
Мне показалось, что на другом конце провода всхлипнули.
— Алло, алло... Люба, что ты молчишь?
— Я не молчу, я, я... плачу. Почему ты не отвечаешь на мои письма?
— Какие письма? Я не получал писем. Считал, что ты уехала. Алло... алло!
— Если получишь, порви! — голос Любы немножко окреп,
— Почему?
— Не знала, что подумать: не можешь или не хочешь писать. Письма страшные.
— Я их разыщу.
— Порви! Слышишь? Дай мне слово, что порвешь... Ладно, последнее можешь прочесть. Определишь по штемпелю.
— Люба, меня послезавтра выписывают.
— Знаю. Машина придет в отряд. Ты зайдешь к нам на квартиру... Я получила тройку по русскому...
Дую в трубку, алекаю. Врывается чужой женский голос: «Время истекло!»
Вошел Иван Прохорович, внимательно посмотрел на меня, достал из ящика стола пачку писем, протянул мне.
— Это не цензура, а превентивные меры против лишних эмоций. Как насчет дома отдыха?
— На заставу.
— Твердо?
— Твердо, Иван Прохорович.
— Тогда двадцать суток освобождения от службы. И режим. Если не хочешь снова попасть к нам, строго выполняй все указания по лечебной гимнастике.
В руках у меня пять писем. Мне хотелось, чтобы штемпеля стерлись, тогда я поневоле должен вскрыть все. Но печати были на редкость четкими. Отложил один конверт. Неужели остальные надо уничтожить? Нет, не могу. Это свыше моих сил. Пусть полежат нераспечатанными. «Порви, слышишь?» — будто вновь доносит до меня голос Любы телефонная трубка. Зажмуриваю глаза и рву на мельчайшие клочки. Только после этого распечатываю отложенный конверт.
«Верю тебе! Верю, верю, несмотря ни на что! — рябили у меня в глазах торопливые строчки письма Любы. — Но с каким опозданием я узнала обо всем этом! Напиши как можно скорее и как можно подробнее о своем самочувствии. Ничего не приукрашивай. Мне надо знать все, все! Говорят, люди познаются в беде. Как я хочу помочь тебе, но пока ничего не придумала. Учебники валятся из рук. Мама в отчаянии.
Пиши, пиши, пиши!
Адрес на конверте и еще повторяю здесь.
Люба».И второй листок:
«Мой скромный, мой хороший, мой обиженный!
Только что получила письмо от врача Ивана Прохоровича. Это старый приятель папы. И какое счастье, что я напала на него. Он в курсе всех дел и полон оптимизма. Только ты слушайся его. Это и мое требование. Сохранились ли у тебя мои последние письма на заставу? Изорви их. Считай, что мы только вчера вернулись из леса. Бегу в школу, хотя знаю — заниматься не смогу.
Люба».В дверях показалась тетя Маша со шваброй и влажной тряпкой в руках. Я обхватил ее, поцеловал и начал кружить по палате.
— Перестань, дурень. Господи, и не поймешь, от чего их лечить: от болезней аль от глупостей.
— Нет у меня никаких болезней, теть Маша!
— Я вот нажалуюсь доктору — он найдет.
* * *Утро полно неудач и волнений. Запропастилась сестра-хозяйка, долго не мог получить свое обмундирование. Раз пять ходил в канцелярию за предписанием. Что это за привычка у людей начинать работу с девяти утра? Теперь жди автомашину. Потом собираем попутчиков, неторопливо выползающих из других отделений госпиталя. Ну наконец-то поехали. Но как! Волы идут быстрее. Шоссе идеально ровное, а водитель то и дело притормаживает на каких-то невидимых вмятинах. Не выдерживаю, стучу по железной крыше кабины. Шофер останавливает грузовик, открывает дверцу, спрашивает:
— На пожар спешишь или на свидание?
Черт полосатый, прямо под ребро. И поехал еще медленнее. Хоть слезай и подталкивай кузов. Я не вижу, что творится вокруг, меня интересуют только километровые столбы. Как они медленно ползут навстречу. И цифры уменьшаются всего на одну единицу. Когда будет конец? А это еще что?
Тоненько взвизгнули тормоза, колеса сошли на обочину и плавно остановились. Шофер был щеголеват: в хромовых сапогах, чистом синем комбинезоне и кожаных перчатках. Он красивым, профессиональным жестом откинул капот и стал осматривать мотор. Весь его, шофера, вид говорил: ничего, мол, с его машиной не случилось и не могло случиться, однако по инструкции он должен время от времени проверить расход масла, как ведут себя скаты — не перегрелись ли, держат ли заданное давление. Он знает, что и тут ничего не случилось, иначе почувствовал бы по ходу машины, но какой уважающий себя водитель удержится, чтобы не пнуть носком сапога покрышку?