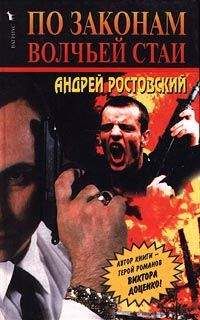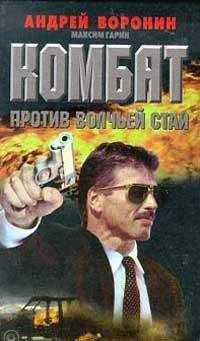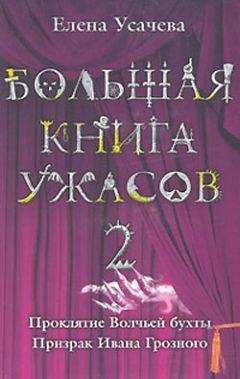Юрий Пшонкин - Пленник волчьей стаи
— Я спасу твоего сына... или дочь.
Размотав чаут, он петлей захлестнул его вокруг камня и начал осторожно спускаться в яму. Яма была глубокой — на две длины его копья:
Медвежонок лежал на боку и даже не пошевелился, когда человек оказался возле него. Только тихонько всхлипнул и затих. Атувье поднял его. Ой-е, совсем тощий, шкура да кости. Очень легкий. Заяц и тот тяжелее. Он перекинул кайнынчика через плечо и не без труда, перебирая чаут руками, выбрался из ямы.
Матуха стояла на прежнем месте. Увидев, что человек вытащил ее сына и положил на землю, рванулась было к ним, но остановилась и попятилась, как бы давая понять человеку и волку, чтобы они ее не боялись.
Медвежонок, оказавшись на свету, совсем затих. Атувье даже показалось, что малыш умер. Он наклонился к нему, прижался ухом к свалявшейся шерсти спасенного. Не-ет, живой,— сердце медвежонка хоть и редко, но билось. «Наверное, скоро умрет, совсем плохой»,— решил Атувье, не сводя глаз с матухи. Умные медведи, однако, поди узнай, о чем сейчас думает мать этого медвежонка, чего она ;вытворит. «Помрет ее сын. У нее давно уже молока в сосках нет. Чем она его накормит? Отнесу-ка я его Тынаку. Женщины умеют выкармливать маленьких». Он встал, крикнул матухе:
— Мать своего сына, слушай меня! Я отнесу твоего сына к себе в ярангу, к своей жене Тынаку. Твой сын совсем отощал, скоро помрет. Ты не спасешь его. Я отнесу его Тынаку, она поможет. Ты поняла меня?
Медведица повела ушами и в ответ негромко заревела, протяжно и жалостливо. У Атувье от удивления даже волосы зашевелились. «Ой-е, правильно говорят старики, что медведи — это люди в шкурах»,— вспомнил он не раз слышанное от серебряноголовых мудрецов, со страхом и почтением вглядываясь в матуху.
Он отвязал чаут, перекинул через плечо безжизненное тельце медвежонка и пошел назад. Оглянувшись, увидел, что матуха держится сбоку, строго соблюдая расстояние, которое, по ее разумению, не пугало человека и его волка.
Так они и подошли к яранге.
Завидев невредимого мужа, да еще и с удивительной ношей, Тынаку поспешила навстречу, но тут же испуганно шарахнулась к яранге.
— Не бойся ее, она ничего плохого не сделает,— сказал Атувье, передавая жене копье. Он осторожно положил медвежонка на землю.— Если его не накормить, он скоро умрет. Маленький кайнын совсем ослаб без еды в яме-ловушке.
Тынаку все еще со страхом смотрела на стоявшую медведицу, которая не спускала глаз с людей, с детеныша.
— Это... ее? — тихо спросила Тынаку, кивнув в сторону матухи.
— Совсем ты глупая женщина,— усмехнулся Атувье.— Зачем спрашиваешь? Разве ты ничего не видишь?
Тынаку присела возле медвежонка. Его глаза были подернуты голубоватой пленкой. Он вдруг тихонько застонал. Все равно как больной ребенок. Тынаку встала, зашла в ярангу и вскоре вернулась, держа в руке тряпицу. Расстелив ее на земле, зачерпнула ложкой мясной похлебки из котла и вылила ее на тряпицу. Потом зачерпнула еще и снова слила. Свернув кульком то, что осталось на тряпице, склонилась над медвежонком.
— Раскрой ему рот,— попросила она мужа.
Атувье наклонился, с трудом разжал пасть маленького медведя. Тынаку сжала тряпичный кулек, и в алую пасть медвежонка полилась жирная струйка.
Медведи живучие. К вечеру, подкрепившись, медвежонок ожил и уже не стонал. Но был еще так слаб, что даже стоять не мог. И все это время его огромная мамаша сидела на своем, облюбованном ею месте и безотрывно смотрела на людей и на сына.
Не спускал взгляда с маленького медведя и Черная спина, растянувшийся у яранги.
Только Атувье не обращал внимания на спасенного медвежонка и его мать. Некогда ему было: уже подкрадывалась осень, а за ней на белых крыльях прилетит зима. И хотя вешала юкольника алели от распластанных тушек кеты и горбуши и сохнувших ястыков икры, он все равно рыбачил. Много надо еды — зима длинная. Конечно, для троих, может, уже и хватит юколы и квашеной рыбы, но кто знает, что может случиться. Не одни они даже в этом медвежьем углу. Во-он сколько зверья живет рядом. К тому же он втайне надеялся, что Черная спина отыщет себе подругу и приведет ее к яранге. Ой-е, хорошо бы! Тогда уже следующей зимой удастся заиметь маленькую собачью упряжку. Почему собачью? Волчью. Все равно он приучит и волчат к нарте. Э-э, нет, лучше заиметь хотя бы двух ездовых оленей. Хорошо бы, да не видел он пока здесь оленей. Может, потому они здесь не живут, что медведей много. Во-он сколько троп по берегам. Шибко много медведей. Ой-е, зачем думать об оленях, надо к зиме готовиться и к самому главному делу — рождению сына. Много-много надо успеть сделать до снега: достроить балаган, где будут храниться юкола и вяленое мясо, заготовить дров, нарубить ровных палок для нарт. На постройку одного балагана уйдет не один день — надо ямы вырыть, столбы срубить. Много дел, не до медвежонка, возле которого на корточках сидит Тынаку.
А матуха, словно убедившись окончательно, что теперь ее сын будет жить и ему будет хорошо, встала и не спеша, ни разу не оглянувшись, пошла к реке. Все время, пока сын находился в яме, она сама ничего не ела и теперь, успокоившись, почувствовала сильный голод.
Отходил, таял еще один летний день, и на землю чаучу тихо-тихо опускался вечер. День угасал медленно, нехотя уступая сумраку свои владения. В долину Апуки сползал туман, цепляясь за кудрявые, налитые сочной зеленью тополя, лиственницы, путаясь в буйных травах, в кочках тундры.
Вдоволь нахлопотавшись за день, затихли птицы; в тихие заводи заходила уставшая рыба; подыскивали глухие, укромные уголки в лесу, в кустарниках зайцы, устраиваясь на ночлег. И только прожорливые, неутомимые лисы, соболя, горностаи и росомахи все еще шныряли по кустам, берегам рек, стараясь на вечерней дремной зорьке добыть то, что ушло днем. Не дремали и могучие орланы и вся их когтистая братия, облетая реку и ее притоки. Для этих добытчиков вечер — тоже охотное время.
Притомился к вечеру и Атувье. Да и Тынаку, которая день ото дня становилась тяжелее, медлительнее, тоже устала: пока Атувье рыбачил, а потом рыл ямки под столбы, она соскребала со шкуры медведя-людоеда жир, кормила медвежонка, копала съедобные корешки, готовила ужин.