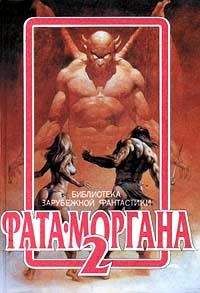Мор Йокаи - Жёлтая роза
Клари решила, что сейчас самое подходящее время испробовать это средство.
«Адамова голова» была спрятана у неё в сундуке.
Корень этот похож на маленького чёрного человечка: большая голова, туловище, ноги.
В старину о нём слагали много песен. Говорили, будто, когда его вырывают из земли, он подымает такой плач, что человек умирает от страха. Поэтому корень вырывали, привязывая его к хвосту собаки. Известно, что с помощью этого корня Цирцея[3] возбудила к себе безумную любовь спутников Улисса.
Аптекари называют «Адамову голову» «Атропа мандрагора» и умеют использовать её с толком. Но откуда же знать Клари, что эта «Атропа мандрагора» ― яд?
3Господа, заезжавшие в хортобадьскую корчму, ещё засветло отправились в путь.
Хортобадьская корчма называется корчмой не потому, что она стоит где-то в захолустье, под камышовой крышей, как это представлял себе художник. Это солидное каменное здание, крытое черепицей, с уютными номерами, с кухней для господ и погребком. Ему в пору стоять в центре любого города. В конце сада спокойно текут воды Хортобади, берега которой поросли камышом и ивами. Недалеко от корчмы через большой каменный мост, покоящийся на девяти быках, проходит тракт. Дебреценцы утверждают, будто мост этот потому такой прочный, что известь, применявшуюся для его строительства, гасили молоком; завистники же говорят, что известь гасили вовсе не молоком, а вином с дебреценских песчаных виноградников ― этой вяжущей рот кислятиной, которая только для таких целей и годится.
Столь ранний отъезд был вызван причинами как эстетического, так и практического характера. Художник заранее радовался, что он сможет наблюдать восход солнца в степи, восход, о котором не имеют ни малейшего представления те, кто не видел его собственными глазами. Практической же стороной было то, что коров, которых они купят, можно отбить от стада только рано утром. Как известно, на матайском стойбище в одном гурте полторы тысячи коров. Весной большинство из них ходит с телятами. Если рано утром, до того как телята успеют насосаться, пастухи зайдут в стадо, поймают телёнка проданной коровы и выведут его, то мать сама пойдёт за своим детёнышем. Эти одичавшие коровы не видят людей, кроме своих пастухов, и наверняка забодали бы чужого, попытавшегося применить силу. Но к пастухам они привыкли.
Итак, приезжие господа отправились в двух шарабанчиках в ту глухую часть хортобадьской степи, куда даже степные жители не ходят без проводника. Но оба дебреценских кучера отлично знали местность. Молодого пастуха, посланного с ними в качестве проводника, они оставили ещё немного повеселиться. Он обещал догнать их у стойбища.
Художник, известный венский пейзажист, хорошо владел венгерским языком: он часто бывал в Венгрии, где изучал природу и быт. Другой господин был главным конюшим крупного моравского помещика графа Энгельсгорта. Было бы разумнее послать вместо него кого-нибудь, знающего толк в рогатом скоте; конюший разбирался только в лошадях, но зато он выгодно отличался от других господских приказчиков тем, что умел говорить по-венгерски. В бытность свою драгунским лейтенантом, он долго жил в Венгрии, и здесь венгерские молодки научили его своему языку. Тем не менее хозяин дал ему в проводники двух погонщиков, славных, крепких парней, вооружённых пистолетами.
Один из дебреценских господ был городским комиссаром, а другой ― тем самым горожанином, из чьего стада должны были быть выбраны двадцать четыре племенные коровы вместе с нужным количеством быков.
В час их отъезда на западе ещё стоял месяц и сияли звёзды, а на востоке уже занималась заря.
Именитый горожанин объяснил художнику, что самая яркая звезда в вышине называется «Лампой изгнанников»; к ней в прежние времена обращались бетяры с мольбой: «Боже, помоги нам!», веря, что с её помощью можно безнаказанно угонять чужой скот.
Художник пришёл в восхищение от этого рассказа: «Совсем в духе Шекспира!»
Но ещё больше он был изумлён картиной бесконечной равнины, которая открылась им после получаса быстрой езды. Куда ни глянь ― вокруг только море травы да небо, и ничто не нарушает величественного однообразия степи: ни летящая птица, ни аист, охотящийся за лягушками.
― Какая идиллия! Какой колорит! Какая величественная гармония даже в контрастах! ― всё больше воодушевлялся жрец искусства.
― Сейчас здесь ещё куда ни шло, но вот когда появятся слепни и комары… ― проговорил хозяин.
― Как прекрасны эти оазисы, темнеющие среди однообразия светлой зелени!
― Их у нас называют лужайками.
В это время в небе зазвучала обольстительная песня жаворонка.
― Чудесно! Восхитительно! Что за жаворонки у вас!
― Сейчас они ещё тощие, а вот когда созреет пшеница…
Светало; багряный цвет неба сменялся золотисто-жёлтым. Над горизонтом уже зажглась предвестница дня ― утренняя звезда; в мокрой от росы траве тени людей казались окружёнными радужным ореолом. Четвёрки лошадей быстро мчали лёгкие шарабаны по бездорожной зелёной степи. Вдали, на горизонте, что-то чернело ― это был саженый лес; среди голой степи уже вырисовывались первые перелески акаций и курганы, отливавшие синевой.
― Это замские курганы, оставшиеся после нашествия татар[4], ― объяснил дебреценец своему спутнику. ― На том месте когда-то было селение, но татары уничтожили его дотла. Среди травы ещё и сейчас виднеются развалины древнего храма. Немало человеческих останков выкапывают из-под земли собаки, когда охотятся там на сусликов.
― А это что за голгофа?
― Это не голгофа, а гуртовой колодец с тремя журавлями. Теперь уж недалеко и до загона.
У акациевой рощи устроили привал. Здесь предстояло дожидаться ветеринара, который тащился на своей двуколке с матайского хутора.
Художник немедленно начал делать наброски в своём альбоме, воодушевляясь всё больше и больше: «Какие сюжеты! Какие мотивы!»
Его спутник то и дело приставал к нему с советами рисовать не колючий чертополох, а лучше, например, вон ту красивую, стройную акацию.
Наконец, показалась двуколка доктора.
Доктор даже не остановился, а, сидя на облучке, пожелал господам доброго утра и крикнул:
― Подымайтесь, подымайтесь, надо спешить, пока не рассвело!
Ещё один изрядный перегон, и они подъехали к «большому стаду».
Это самое замечательное зрелище в хортобадьской степи.
В одном гурте полторы тысячи коров и множество быков.
В эти часы всё стадо ещё лежит. Спит ли оно? ― трудно сказать, ибо никто ещё не видел прилёгших на землю коров с закрытыми глазами. К ним неприменимы слова Гамлета: «Уснуть! И видеть сны, быть может?»