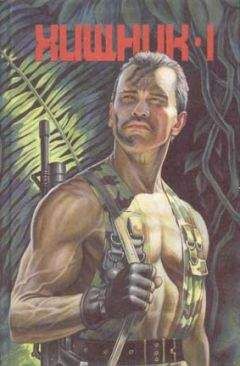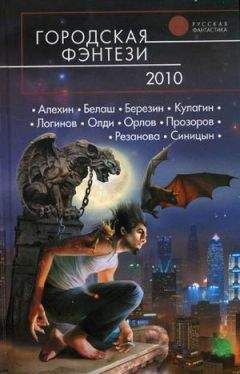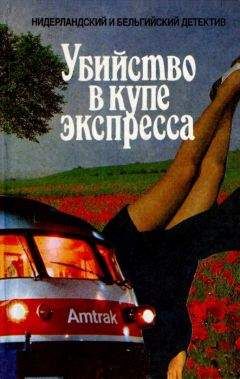Дэн Кордэйл - Хищник. Заяц моего дедушки. Засада. Гоп-стоп
Да, грабанули их тогда подчистую. Мать в крик, а что толку, кричи не кричи… Был у них в округе один блатной: кликуха — Гитлер. Только он, подсказали добрые люди, может помочь. Мать последнее продала, чтобы было чем гостя встретить. Пожалилась ему: так и так, урки вдову героя обидели. Тот выпил, смолотил сковородку картошки, рыгнул и говорит на прощанье: «Ничего, теть Поль, не переживай, все будет путем». На другой день принесли узлы. Кое–что, правда, уже пропало безвозвратно, так замену дали, получше старого. «Извините, не знали…» Мать за Гитлера потом свечку в церкви ставила.
— Э–эх, мама, маманя, ядрена вошь! — пробормотал Витек вслух, скрипнув зубами. — Пасут небось мусора… — А про себя добавил: опять дурной сынок покоя маме не дает. Увы, так говорится, увы…
Два дня пролежал он на том чердаке. Отоспался за все годы. Правда, без хавки и питья. Ну да не привыкать. К концу второго дня слышит — в замке лапки гремят. Входит бабенка с мокрым бельем в тазу. Стала вешать. И он подумал: может, через час или два повяжут — ведь жалеть потом будет… Подошел сзади, заточку к боку приставил. «Пять лет женского духу не слыхал. Разреши слегка помацать тебя». Стоит — ни жива ни мертва. Полотенце с красным петухом зажала. Расстегнул кофточку, запустил руку. Буфера, ей–бо, как у девки! Зашатало парня, заштормило. А–а, сказал себе, за восемь бед — один ответ, ядрена вошь!.. А та на ухо шепчет: «Товарищ бандит, я протестую, мы так не договаривались!» — «Молчи, дура, а то… апелляцию…»
Ночью отыскал корешей. Они из общака сгондобили новый лепень, на ноги шкары со скрипом, в карман липу с пропиской, на арбуз — парик, как огонь. В упор не срисуешь. Все хорошо, только питаются они одними консервами, все равно как бичи на каком–нибудь зимовье — он–то надеялся картошку жареную у них найти…
«…Ты учила нас но сдаваться ни при каких обстоятельствах. В пример приводила безногого Гришу Колесо. Недавно я звонил ему. Он до сих пор живет в том же высотном доме, возле вокзала, из которого видно семь рыга… пивнушек. Он меня сразу… («А–а, Витек! Ну что, судьбу решил поменять?» — «А чего побаиваться, дядь Гриш? Скажи–ка лучше, где нам пивка попить удобнее?» — «Иди к красному магазину, там сейчас никого…») Он по–прежнему «пивной диспетчер» — ноги вместо казенных колес не выросли. Честное слово, мама, завидую я его силе волн».
Вволю они тогда раков перетопили. Говорит Витек корешам: надо на дело ночью идти. «Куда?» — «А вон сколь киосков у вас расплодилось. Устрою–ка им ревизию. Подниму на паре–тройке паруса». — «Нельзя. Их крутые ребята опекают». — «Это те, что в кожанах, как чекисты?., фрайера, параши не нюхали!» — «Они и не будут нюхать — не тот стиль». — «Вот потому–то и стану бомбить их киоски. Нашим стилем, с помощью «дяди Фомича», ядрена вошь!»
На зорьке наехал на пару киосков — в соседних окошках даже занавесочки не дрогнули. Скучно. Бабок стоящих не оказалось, так, мелочевка, детишкам на молочишко, не казенный это вам магазин, увы, как говорится, да и взять особо нечего — сплошь колониальные товары: кофе, шоколад, жвачки да сигареты, а картофеля жареного, как назло, ни одного пакета не нашлось. Но и то дело, на халяву–то и уксус сладкий. Нагрузился все равно как городушнпк какой–нибудь из Крыжополя. Еще на себя пару кожанов напялил. Еле добрел.
Витек долго сидел неподвижно, словно бы думая, покусывая ручку, в голове было пусто, и не приходили те слова, которые он ждал. Из соседней комнаты вползла оглушающая патока убаюкивающей музыки, танцующие пары влипали друг в друга, и это все — и эта музыка, и эта откровенность партнеров, и сладострастный вой певца, — все раздражало, сбивало с мысли, с ритма, с чувства, которое никак не хотело созреть и свободно излиться на бумагу, сама обстановка, сама атмосфера натужного веселья уводила, утаскивала куда–то, куда не хотелось, и он противился, упирался, и эта борьба еще больше взвинчивала, еще более раздражала, и это все вместе изгоняло из души последнее тепло. Он зло ухмыльнулся, вернувшись к письму, пробежал его глазами, и стал вычеркивать написанное. К черту! К черту! Про чудо и картошку оставить, остальное — долой.
«…А знаешь, кого я встретил на днях? Ни за что не догадаешься — Гитлера! Ну, того самого — помнишь? Иду это я мимо рыга… столовой у щепного рынка, а он навстречу. выворачивается. От прежнего, конечно, и четверти не осталось. Обычный ханыга–помоечник. Опустившийся, короче, элемент. Окликнул его. Он долго не мог меня угадать…»
Долго не мог срисовать. Совсем, видать, уже вечный фрайер. Потом наконец: «Витек! О–о, в каком ты прикиде — не иначе жида грохнул». — «Я с мокрым не кантуюсь». — «Слыхал, от Хозяина когти рванул?» — «Было дело». — «Понта готовишь? — «Обижаешь, старик». — «Неужто ведьмедя взял за лапу?» — «Не совсем медведя, но кое–что взял. Постой–ка тут, я счас!» Принес ему десять косых и ящик баночного пива. «Это тебе из общака». Он аж взмок. «Витек! — кричит. — Разве меня помнят?» — «А то как же!» — «Да я тебя, Витек!.. Хочешь, смастырю темную ксиву — ни один мент не раскопает». — «У меня с этим делом все на мази. Ты вот лучше гостинец мамане передай. Да так, чтоб никто не просек…»
Нет, это тоже ни к чему! — убито вздохнул Витек. Долой все это, в клочки и под стол. И вспоминать больше не хочется про крохобора этого мелкого, козла алчного. О хорошем надо писать, позитивное освещать, с негативом пусть борются правоохранительные органы — им за то жалованье платят. Боже мой, на какую малость люди порой воровскую честь разменивают, — а когда–то уважаемым человеком был… Но хватит, хватит, парень, о грустном.
«…Мама! Я встретил девушку. Она хорошая. Не курит. Не пьет. Глазки голубенькие. Губки бантиком. Просто ангел…»
А познакомился почти случайно. Проходил мимо того дома, где отсиживался, глядь — в беседке на столе сидит та самая биксочка, которую на чердаке видал. Ножками болтает. А ножки — в ажурных чулочках. Столбняк с ним случился. Ух ты, папуня! Подваливает барином. Вынимает шоколадки, конфеты, всякие жамки, сыплет ей на колени. «За что?» — «А за красивые глазки, — говорит голосом артиста Папанова. — Ишь, какие они у тебя…» А потом голосом артиста Миронова добавляет: «Клевая ты чувиха». Она аж в ладошки захлопала: «Еще! Еще!»
«…И еще одно чудо случилось, мама, — опять голос появился! Помнишь, что я в детстве мог с ним делать? И народные пел, и блатные, и даже арии из опер вытягивал. А говорить — так вообще… Раз звоню в учительскую и голосом директора приказываю: на большой перемене всем педагогам построиться в две шеренги. Зачем? — удивляются. Надо! Через час столько смеху было… Кто–то вломил директору, но тот человеком оказался — посмеялся и в самодеятельность определил, даже тебе ничего не сказал. А помнишь, какое сулили будущее?! Но остался мой талант в ШИЗО, на цементном полу, и стали после этого звать меня Хрипатым… (Витек смахнул слезу и скрипнул зубами — певец между тем тоненько и нежно–сладко вел рассказ о голубых южных ночах, о падающих звездах и ждущих женских очах, но только не было ему в том никакой веры, не убеждал, совсем не убеждал в этом тонкий голос кастрата. Скрипнув зубами и прокалывая бумагу, Витек жирно замалевал последнюю фразу.) И вот опять все вернулось — чудесным образом! О, что я в кабаке вытворял по этому поводу — видела бы. Уж потешил народ так потешил. Даже картошку изжарить забыл заказать, хотя только с одной этой мыслью и шел. А под конец голосом артиста Никулина «Песню про зайцев» сделал. Публика — тащилась. Только присел отдохнуть, подходит к столику старикан. Руки в карманах. Меня это даже заело. Тоже мне — блатата, песок из одного места сыплется. Чего, говорю, надо? Автограф? Поздравить, отвечает, хочу. Помнишь, я первый говорил…