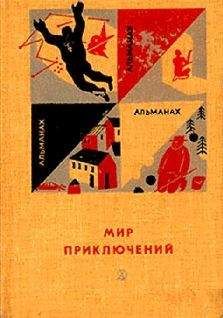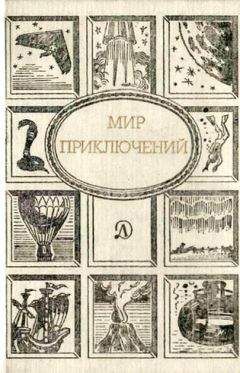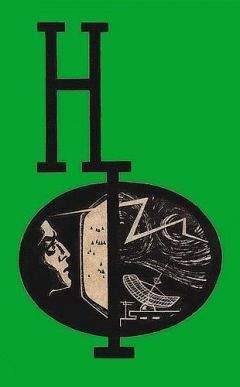Александр Абрамов - «Мир приключений» 1966 (№12)
Потом он мне начал рассказывать про деда, про то, как погрузился в волны “Туб”.
— Ты думаешь, говорил мне дед, я тогда рассчитывал выпутаться? Ничуть. Видел бы ты, как “Туб” шел ко дну. Словно камушек. А дед — не салага, уж он-то знал: под килем две мили с хвостиком; на наши, на сухопутные, все четыре километра набежит. На какое тут чудо будешь надеяться! Только я все-таки человек, говорил дед, а не чушка чугунная, а человек до последнего мгновения борется; пусть неосознанно, пусть инстинктивно — но борется!.. Вот и он: бросил любоваться сменой гаммы за иллюминатором, подскочил к двери и — крэк-крак! — на ключ ее, потому что в коридор через люк вода стеной ломилась. Оглянулся: не законопатить ли в каюте где какую дырочку? Не пришлось, полный ажур. Успокоился. Вода из-под двери струями бьет, а дед на нее без внимания; думает, где сейчас Тэд, где Боб, где Коля Бомбей, где остальная команда. Прикинул — будто бы все в момент удара наверху находились. Значит, не пропадут, сейнер подберет. Совсем успокоился дед. Стоит посреди каюты, а в ней темно и воды уже по колено, и в ушах ломит — давление все-таки приличное и растет очень уж быстро. И чувство такое, словно на лифте спускаешься. Только вдруг “Туб” начал замедлять, замедлять движение и вовсе вдруг стал. Дифферент на нос у него — градусов пятьдесят. И все растет, будто клиппер вокруг поперечной оси поворачивается. Понять нетрудно: грузы в трюме из-за дифферента поползли к носу — значит, еще больше нарушают равновесие. И действительно, “Туб” поворачивался, пока вовсе не стал вертикально, да так и застыл. Дед плавает в своей каюте, ничего понять не может. Вода прибывать перестала — воздух ее дальше не пускает. Дышать тяжело, перед глазами муть красная, а все-таки веселее, чем ко дну идти… По давлению да по свету темно-фиолетовому в иллюминаторе дед прикидывает: глубина метров восемьдесят, ну сто от силы. Что за чудо? Ведь точно он знает, нет здесь ни хребтов подводных, ни скал, и зацепиться не за что… А потом почувствовал, что вода-то холодная стала, и не оттого, что долго в ней пробыл — какое там долго: и двух минут не прошло! — а просто действительно-таки чертовски холодная. А где ей здесь взяться, в сердце Гольфстрима? Единственно — из Лабрадорского течения. Как понял это дед, так ему ясно стало, отчего “Туб” ко дну не идет: у этих течений плотность воды разная, на границе скачок плотности получается. Через теплый слой, гибралтарский, клиппер прошел, а через холодный не может — вода слишком плотная; а в “Тубе” к тому же воздуха оставалось много, вот он и плавает на границе течений, будто поплавок. Ну и ну, подумал дед, история хоть куда, будет о чем рассказать в “Черном Томе” между двумя стаканами виски. Эта рябая рожа Кристи с зависти сдохнет…
…На четвертый день мы набрели на высохшее русло и прошли вдоль него километра четыре, пока в одном месте не увидали несколько кустиков сочной зеленой травы; их я тотчас же съел с корешками, а потом копал в том месте, пока не докопался до воды, и мы, наконец, смогли напиться и набрали полную фляжку; еще через сутки у меня кончились консервы, а на следующее утро — значит, это был седьмой день, — Павел уже не мог идти сам, и мы брели в обнимку.
У нас не было компаса, по Павел и так неплохо ориентировался, а через два дня и я уже разбирался в звездах: знал, куда закатывается Арктур, узнавал яркие брызги Ориона над самым горизонтом, а несколько в стороне, если немного повернуть голову, — бледную, немощную Андромеду.
Мы шли днем и ночью. Мы отдыхали только тогда, когда вовсе выбивались из сил. Когда голод становился нестерпимым, я просил Павла отвернуться, и он говорил: ешь и не обращай на меня внимания, ты должен продержаться, понимаешь, должен. И я сидел рядом с ним и тщательно пережевывал каждую кроху.
Когда я докопался до воды и предложил ему напиться, он отказался. Он действительно не хотел пить, хотя уже вовсе высох и обуглился. Тогда я отключил электроэмоционатор и заставил его напиться.
Потом мы сидели над ямой и говорили, какая это славная штука — вода, и о том, что наши дела в общем не так уже плохи. Жаль только, что Павел так и не вспомнил, что это за русло, а я смотрел на него, и мне было страшно, потому что электроэмоционатор был отключен, а Павел все равно не говорил, что хочет есть.
“Сытость” я больше не включал…
Потом мы встали, и я помню, что трудней всего было заставить себя уйти с того места.
Сегодня я его нес…
Я попытался вспомнить сегодняшний день и не смог. Я только помню, что нес его, и он весил до ужаса много, с тонну, наверное, так что отдыхать я ложился только три раза, потому что чувствовал, что чаще отдыхать лежа нельзя.
Я боялся ложиться и отдыхал стоя. И даже глаза закрывать боялся, знал — упаду. А потом шел дальше, словно лунатик. Шел и думал, что вот сейчас нужно перенести тяжесть на левую ногу, а правую вынуть из песка, продвинуть вперед и упереть. Потом перенести тяжесть на нее и вынуть из песка левую ногу… упереть… а теперь правую… а теперь снова левую… (солнце отражается в песке, как в зеркале: черное, усатое, много-много солнц, со всех сторон, от них весь песок почернел), а теперь снова левую… нет, сейчас правую, левую потом…
Я бы не смог нести Павла, но я переключил электроэмоционатор на себя и оставил только две программы: ровную работу сердца и легких. Я б еще включил и “оптимизм”, но аккумулятор в аппарате вовсе сел, и нужно было беречь каждую каплю энергии. И я весь день смог нести его только потому, что сердце работало удивительно ровно и дыхание было великолепное. Я очень жалел, что в первый день не догадался записать биотоки ног при ходьбе. Как бы я сейчас шел! Не задумываясь шел бы и шел, пока в организме оставалось хоть немного сил. Теперь уж поздно об этом думать.
Павел весит тонну и рассказывает, рассказывает про деда — вынуть ногу из песка, перенести…
— Как делается чудо? — любил повторять дед. Вот этими руками. И чтобы немного повезло… Когда он рассказывал свои истории, то все посмеивался, но я — то понимаю, что пришлось ему в тот раз, ох, как нелегко: при таком давлении, да еще без привычки, двигаться вообще тяжело, а ведь он нырял снова и снова, из помещения в помещение, в темноте, пока не вытащил на сухое водолазную помпу, а конец шланга от нее привязал к двум пустым бочкам и выпустил этот поплавок на поверхность. А потом — это и на поверхности работенка! — качал себе воздух. Не пошел бы туда воздух, говорил я деду и на бумажке все это быстро ему доказывал, а он и не спорил. Может, ты и прав, Павлуха, может, по бумажке он действительно туда не может идти, говорил он, только ведь шел!.. И он плавал эдаким манером, говорит, дня три, слава богу, пить-есть было что. Вот только холодно, но дед укрепил в воздухе гамак — и ничего, обходился. Но как на поверхность выбраться? Своим ходом — гибель, организм не выдержит, постепенно это нужно делать. А как постепенно? Попробовал дед воздухом воду вытеснять из клиппера — не под силу это помпе, а что еще придумать — не знает. И вдруг просыпается он как-то от толчка. Прислушался — явственные такие удары: бьется “Туб” обо что-то твердое. Посветил дед фонариком через иллюминатор, а там лед. И в то же мгновение, после очередного толчка, “Туб” вдруг качнулся, накренился, завертелся, перевернулся несколько раз. Это продолжалось пять — десять секунд, но дед едва не погиб: вода и воздух смешались, все кипело, бурлило, дышать нечем. Потом “Туб” вдруг замер, плотно стал, накренился в последний раз на борт — и в каюте стало светло: сквозь иллюминаторы лился дневной свет, а “Туб” стоял на льду, вода потоками сбегала в океан; с трех остальных сторон и сверху громоздились ледяные глыбы — “Туб” оказался в гроте. Айсберг. Тут уж и пояснять-то нечего, каждому ясно: течение занесло клиппер в этот грот еще под водой, айсберг был источен Гольфстримом, очень неустойчив, и слабенький толчок “Туба” стал той последней каплей, после которой он опрокинулся. Вот и все. И здоровье деда не пострадало. С перепугу, наверное. Дед говорил: временный пластырь на пробоину в днище “Туба” он сам навел, и грузы в трюме сам на места перетащил, и сам динамитом пробил “Тубу” выход в океан, и сам вел клиппер до Рейкьявика. Опоздал, конечно, на восемь дней, и ремонт обошелся в копеечку, но зато таких историй, как эта, в “Черном Томе” еще отродясь никто не слыхивал, а рябой Кристи с досады перешел с виски на пиво; впрочем, они потом с дедом подружились, и когда, обнявшись, распевали “Гоп-ля, Атлантика — веселый океан”, говорят, у них не плохо получалось…