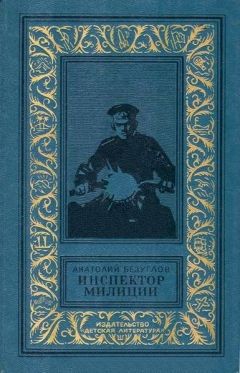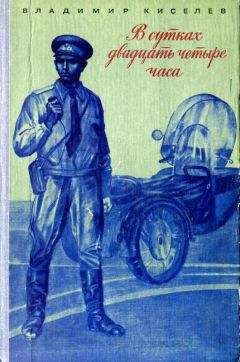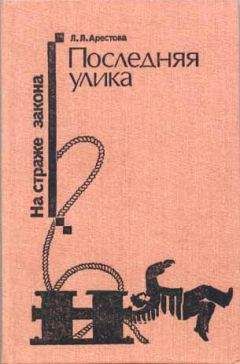Юрий Смирнов - Переступить себя
Она молча плакала, и ему жалко стало ее, будто по сердцу резанули…
— Прости, пожалуйста, — он придвинулся ближе, обнял, — сам не знаю как вышло. Такая злоба взяла: толковал, толковал…
— Да откуда ты взял, — она, плача, улыбалась, — что я воровать побегу? Хватит, наворовалась! Дай мне осмотреться — и на работу поступлю. Что уж ты, Миша, какой стал суровый. Пойдем, а то люди скажут: то ли дерутся, то ли милуются…
Он верил ей и не верил… Духовная власть ее над ним кончилась, она понимала это, но оставалась власть тела. В грубых ее ласках грубел и он, и, лежа рядом, обессиленный, он никак не мог освободиться от мысли, что только что изменил Тане с чужой и грязной женщиной. Мучительны были их ночи, ими она выторговывала право на свою новую жизнь и новое понимание ее, а он уступал и уступал, еще на что-то надеясь. И донадеялся! Через год пришел к нему мастер участка Петр Федорович Касаткин, присел стеснительно к столу (Бурлины ужинали), попросил отослать на время мальчонку. Кольке того и надо было, дунул на улицу, а Петр Федорович начал рассказывать. Его младшая восемнадцатилетняя дочь, говорил он, работает в промтоварном киоске, что на базаре, и у нее нынче украли початую штуку шерстянки с лавсаном, ни много ни мало, а метров под двадцать будет. В милицию он дочку не пустит, роток девке заткнет, хулы и огласки ни на кого не положит, но ты, Михаил Алексеич, повлияй на жену: пусть вернет украденное. И, не дав слова вымолвить Михаилу, сказал:
— Голубиная у тебя душа, Миша, потому и пришел. А так что же… Ее, — он кивнул в сторону Татьяны, как на пустое место, — на базаре все знают. Скупает, перепродает, а при случае и приворовывает. То перчатки, то шарф, то еще что по мелочи стянет с прилавка, а у моей раззявы вон как — чуть не весь киоск уперла.
Татьяна молча встала из-за стола и пошла по выложенной кирпичом дорожке в глубь двора. Они слышали, как звякнула щеколда калитки, ведущей на соседнее подворье.
— Миша, а куда это она пошла? — спросил Касаткин.
— Не знаю, Федорыч, — ответил Михаил, не подымая на Касаткина глаз.
— А знать надобно бы, Миша, — сказал с укором Касаткин. — Пошла она к соседке Акулине Коротковой. С этой беспардонной старухой и шурует твоя Татьяна на базарах. Что ж ты так-то, а?
— Не следить же мне за ней, Федорыч. Да и как уследишь… Я целыми днями на работе.
— А ты вот что, Миша… Ты это… поучи ее, а? Глядишь — и опамятовалась бы. Первое средство, лучше и не надо.
Касаткин помолчал, вздохнул:
— Жизнь перевернулась, язви ее… По своим девкам сужу. Попробуй-ка поучи их битьем: подумать страшно. А ведь отец…
Вернулась Таня, принесла плоское бревнышко материала, завернутое в грубую бумагу. Не зная, что делать с ним, куда приткнуть, она стояла и нелепо держала его в руках… Унизительные мгновения текли, текли, и не было им конца; Татьяна попыталась что-то сказать, в горле ее булькнуло, выкатилось оттуда искаженное, непонятное слово, и Михаил злобно глянул на Касаткина: да возьми же ты, пень старый!
— Пойду я, — поднялся Касаткин.
Таня по-прежнему стояла у стола, безвольно опустив руки. А он ждал минуты, чтобы яростно, с наслаждением бросить ей в лицо свои каменные слова, — невысказанные, они, казалось, разорвут его на части; и вот Касаткин ушел, Таня покорно ждала его суда, и эта покорность сразила Михаила, злоба и отчаяние, терзавшие его, схлынули, и он с холодным презрением к себе подумал, что чуть не выместил свое унижение на раздавленной страхом жене. Уже стемнело, и Михаил даже не глазами, а тем пронзительным оком души, которое дано только любящим, видел, как постарела она, как огрубели черты. Он поднялся из-за стола, подошел к Тане и обнял ее. Она, дрожа и всхлипывая, прижалась к нему.
С того случая жизнь их вошла в тихие берега. Татьяна устроилась на работу — уборщицей в заводскую контору. Пришел день, когда их пригласили в гости, и день, когда они сами принимали гостей. Потом Кольку собирали в первый класс, ходили на свое первое родительское собрание… Все обыденные и необыденные вехи семейной жизни были для Михаила полны особого значения, ибо еще раз убеждали: прошлое забыто. Лишь временами ему казалось… И Михаил заспешил. Он намеренно не поберег жену, она забеременела. Он думал, что рождение второго ребенка навсегда отсечет те щупальца, которые еще тянутся к ней из прошлого. Татьяна нашла врача и сделала аборт. Он вернулся вечером с работы, увидел ее, лежащую с бледным ненавидящим лицом, с запекшимися, искусанными губами, и понял, что вся их жизнь после тюрьмы была зыбкая, неустойчивая. Надежды его — в который уже раз! — обвально рухнули. Он выбрался из обломков без сил, с отупевшей душой, и опять прошло какое-то время, чтобы он мог помыслить о будущем. На то время и пала его первая встреча с лесником. Он чувствовал, что в словах лесника была беспощадная народная мудрость, но что оставалось ему? Ничего, ничего…
К его удивлению, Таня сразу же согласилась на отъезд. И не только согласилась, а даже попрекать начала: почему не сказал раньше, почему потратил два дня на рыбалку, а не съездил в лесничество, не договорился твердо о работе? Вдруг не примут, вдруг уже кто-то нашелся на место старика? Она испуганно прижалась к нему и зашептала с мольбой:
— Уедем, Миша. Виновата перед тобой — отмолю, заслужу, раба твоя буду. Только увези отсюда.
— Татьяна, — сказал он с шутливой строгостью, — про какую рабу говоришь? Ты ничего опять не натворила?
Слова эти выговорились, но не задели его сознания и тут же были забыты. Не придала им значения, будто не слышала, и жена. Она стала высчитывать, когда ему выпадет очередной отгул, чтобы съездить в лесничество. Прикидывали так и сяк — и выходило: не раньше второй половины октября.
— Долго, Миша, — сказала она. — Еще и раздумаю.
Это было существенно. Раздумать она могла. Он сказал решительно:
— Рвать так рвать. Завтра подам заявление. Оно и лучше — при тепле перевеземся. Давно бы нам надо было это сделать. Парень наш растет, свой умишко заимел, уже приглядывается к папке с мамкой, и скоро будем мы у него, жена моя, как на ладони. Детский суд жесток и неправеден, а если еще и длинные языки найдутся…
— Нашлись уже, Миша…
Он и сам знал, что нашлись, был у него однажды разговор с сыном, прибежавшим домой в синяках. Но не хотел он сейчас говорить об этом Тане, скажешь слово, оно потянет за собой другое, вылезет прошлое, а им надо думать о будущем.
— Миша, — сказала она, — почему ты меня не бросил? Тогда, после тюрьмы…
— Спроси что-нибудь полегче. Сколько лет-то прошло?
— Миш, и не бросишь?
— Нет, — сказал он бестрепетно. — Нет.