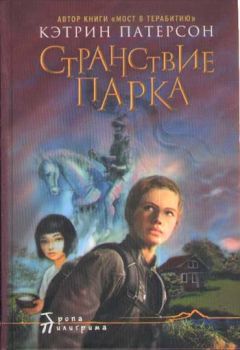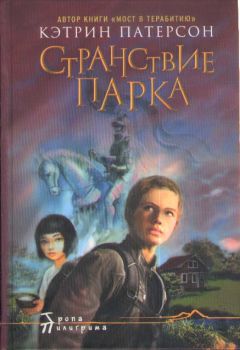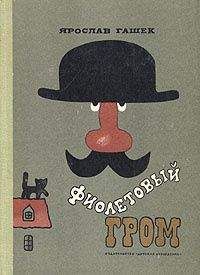Валерий Поволяев - Свободная охота (сборник)
Ели они уже давно – перекусили перед самым приходом гостей, пытавшихся проникнуть в отель, – проглотили по куску зачерствевшего бородинского, заели сахаром, запили водой. Вода ошпарила холодом желудки, сбила жеванину, осадила её на дне тяжёлым комком, Пухначев пожаловался:
– Так и до заворота кишок недалеко.
– Эту воду пить некипяченой нельзя, – сказал старик. – В ней водятся холерные палочки.
Пухначев знал, что старик – геолог, много лазил по горам, по долам с посохом и киркой, открывал для людей олово и нефть, золото и жилы с первоклассной, самой чистой в мире медью, но всё это для Чернова было, оказывается, делом проходящим, неглавным, главное – в окрестностях Кабула, в этих голокожих неопрятных горах, в ущельях старик нашёл воду, много воды, вкусной, целебной, в которой нет ни микробов, ни примесей, ни вредных тварей, способных скрутить человека в три погибели – только сейчас Пухначев узнал, что вода – главное дело старика, основная его специальность.
– Чего, чего, чего? – заворочался Чернов на жёсткой подстилке.
– Я говорю, что вы – гений, – Пухначев ожесточенно потёр руки. – Кто бы думал, что зима в Афганистане – такая холодная?
Старик проворно открыл в темноте банку со шпротами, – вкусно и нежно запахло оливковым маслом, маленькими копчёными рыбками. Недалеко, из-за дувала ударили осветительной ракетой, та, сыро шипя, поднялась в низкое небо, утонула в наволочи – световое пятно было расплывчатым, слабым, потом ракета вытаяла из мги и тихо поплыла вниз.
– Спасибо, – поблагодарил неизвестного ракетчика старик.
М-да, прав старик: главное сейчас – не пронести шпроты мимо рта; Пухначев снова потёр руки.
– Главное сейчас – не закапать парадный мундир, – сказал он. – Чтобы масло не осталось на орденах.
С банкой они расправились в полторы минуты и снова легли на пол. Пухначев некоторое время слушал стрельбу, недалекие крики – кто-то кого-то окружал, кто-то кого-то арестовывал, пробовал понять жизнь ночи, но для того, чтобы её понять, ночь надо было знать – она была таинственная, тёмная, недобрая, улочка их, словно Богом забытая, по-прежнему была тиха, и Пухначев затяжно, обиженно, словно ребёнок, вздохнул.
– Чего тем короедам хотелось? – неожиданно спросил он.
– Каким? – не понял старик.
– Ну тем, что в дверь ломились?
– Болтали что-то насчет госпиталя. Видать, хотели здесь перевязочную устроить, старший всё злился, это он прикладом стучал, вспоминал какого-то Абдуллу, грозил с него шкуру снять, а второй уговаривал, говорил, что не надо волноваться, волнения не стоят шкуры и госпиталь тут делать тоже не резон – улица, мол, глухая, один конец тупиковый, второй выводит к Кабулке-реке, если бы он выводил в горы – тогда другое дело. А Абдулла, говорил он, им ещё пригодится. Это Абдулла закрыл гостиницу на ключ, завтра, дескать, придёт и откроет.
– Завтра – это сегодня?
– Да, завтра – это уже сегодня.
– Что будем делать, если они придут? – В который уж раз спросил Пухначев.
– Держаться и ждать, – сказал старик, – ждать и держаться. А потом взорвём себя.
Старику виднее, он – мудрый, опытный, все зубы съел, разгрызая орехи жизни, на то он и старик, Пухначев устроился поудобнее на жёстком, в нескольких местах истончившемся до картонной толщины одеяле, вытянул ноги и плотно закрыл глаза: он не верил в свою смерть.
Звал к себе Пухначев сон, но сон не приходил. Пухначев начал считать слонов: «Один слон, два слона, три слона», и так далее, досчитал до ста и – видать, действительно в каждой сказке – только доля сказки, всё остальное правда, – после «ста слонов» уснул.
Снился ему хлеб. Большой чёрный ноздреватый хлеб, каравай был только что вынут из печи – очень мягкий, очень свежий, очень душистый, куски крупно нарезаны, щекочуще благоухают вкусным хлебным духом, они летают перед ним, будто птицы, Пухначев наловил очень много таких птиц и во сне стал жадно есть. Давясь, некрасиво чавкая и брызгаясь слюной, опасаясь, что дивный хлеб этот исчезнет. Его растолкал старик, и Пухначев не сразу переместился из сна в грубую холодную явь.
– А? Чего? – забормотал он смятенно, стараясь понять, где он находится.
– Не кричи, – предупредил его Чернов, – на улице – народ.
По тёмной улочке, сипло дыша, бежали люди. Побрякивало оружие. Один из бежавших светил перед собой фонариком, неяркий отблеск луча прыгал по потолку, перескакивал на стены, обозначался там на мгновение и снова перемещался на потолок, потом он исчез.
– Куда побежали эти люди?
– Не знаю.
– Интересно, кто это были: наши или не наши?
– Если бы я знал.
– Я что, кричал во сне?
– Да.
– Во сне я видел хлеб, много хлеба, просто на хлебозавод какой-то попал. К чему бы это?
– К голоду!
До утра они больше не уснули. Утро вставало знакомое – с влажной мгой-туманом, с сыпучим неприятным воздухом, припахивающим кровью, сквозь который никак не могло пробиться солнце, и сильной стрельбой. В ночи стрельба как-то увяла, сделалась слабой, к утру вообще стали слышны лай собак и крик петухов, гоняющих нечистую силу из одного дувала в другой, но едва ночь разжижилась, сделалась бледней, как стрельба зазвучала с новой силой.
Старик лежал безучастный, вялый, на стрельбу, вроде бы, не обращал никакого внимания, хотя всё засекал – он никак не мог не засекать выстрелы, он фильтровал их, сортировал, старался понять, где могут находиться наши?
– Ну что? – спросил Пухначев.
– Суматоха, ничего не понять.
– Почитали бы что-нибудь, – Пухначев сыро, со всхлипом вздохнул: опять предстояло бороться со временем, ползущим с червячьей скоростью, в котором человек теряет себя, стареет с ужасающей быстротой – вот ведь как: время ползёт медленно, а человек дряхлеет, разваливается на глазах, молодой обретает старческие хвори, день жизни в этом заточении равен году.
– А ты что, сам не знаешь стихов? – старик непонимающе сощурил глаза, посмотрел на Пухначева. – Не помнишь?
– Даже в детстве, в школе никак не мог заучивать стихи. Прозу – пожалуйста, могу цитировать целыми страницами, а стихи – нет. Стихи мозг не брал.
– Странно, странно!
– Это особое свойство памяти. Я знал в Баку одного инженера, который, повернувшись спиною к морю, где стояли нефтяные вышки, мог каждой из них дать характеристику – вышка номер такой-то, двигатели стоят такие-то, пласт залегает на такой-то глубине, из него можно взять столько-то нефти, знал, какой отметки достиг бур и сколько он ещё пройдёт за день, и так далее – ни в одной вышке он не запутывался, но заставь его прочитать две строчки из Крылова, или, скажем, из Саади – ни за что не прочитает.