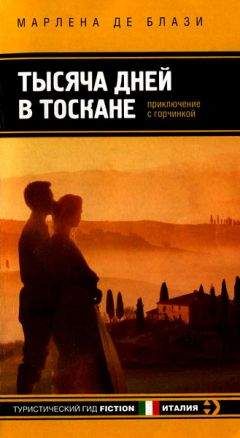Джек Лондон - Тысяча дюжин
На озере Ле-Бардж погода резко переменилась. Холод дошел до высшего предела на нашей планете; термометр показывал шестьдесят с лишним градусов ниже нуля. Работая все время с открытым ртом, чтобы легче было дышать, Расмунсен простудил свои легкие, и весь остаток пути его мучил сухой, лающий кашель, который был для него особенно невыносим, когда на стоянках приходилось дышать дымом костра или когда нужно было сверх меры напрягаться. На реке Тридцатой Мили он наткнулся вдруг на полынью, на которой только кое-где виднелись ненадежные ледяные переходы, да у самых берегов держался еще узенький ледок, обманчивый и коварный. Рассчитывать на эти узкие полосы льда было нельзя, но он не желал ни с чем считаться, все еще пуская в ход револьвер, когда индейцы отказывались ему повиноваться. По ледяным переходам, присыпанным снегом, еще можно было кое-как перебираться, если принять меры предосторожности, и вот стали переправляться по ним на лыжах, держа в руках длинные палки, чтобы в случае провала удержаться на них и не утонуть. Перейдя сами, манили к себе собак. И при одном из таких переходов, когда вместо льда оказалась замаскированная выпавшим снегом полынья, один из индейцев погиб в ней. Он быстро пошел ко дну, и стремительным потоком его унесло под лед.
В эту же ночь, воспользовавшись тем, что светила луна, сбежал от Расмунсена и другой его индеец. Напрасно Расмунсен нарушал молчание ночи выстрелами из револьвера: это выходило у него быстро, но не очень метко. Тридцать шесть часов спустя индеец прибежал к полицейскому посту у реки Большого Лосося. А затем переводчик так докладывал своему удивленному начальству.
— Там… там… там какой-то странный человек… как это по-вашему?.. Ну, человек, лишившийся головы! Как? Да, да! Сумасшедший, сумасшедший! Вот именно! Все, понимаете ли, говорит про яйца, яйца, яйца… Он скоро придет сюда.
И действительно, через несколько дней явился туда и сам Расмунсен. Трое саней у него были привязаны друг к другу гуськом, и все собаки впряжены в одну общую упряжь. Так ехать было неудобно, и в тех местах, где дорога была плоха, ему приходилось каждые сани в отдельности выволакивать собственными силами, для чего требовалось очень много времени, не говоря уже о геркулесовых усилиях. Казалось, что он не слушал, когда полицейское начальство сообщало ему, что его индеец уже ушел по направлению к Доусону и, вероятно, находится теперь на перевале, на полпути между Селкерком и Стюартом. Не заинтересовался он и тем, что сама полиция расчистила перед ним путь вплоть до самого Пелли, потому что уже привык относиться ко всем превратностям судьбы, благоприятным и дурным, с фаталистической покорностью. Но когда ему сообщили, что в Доусоне голод усилился до невероятных размеров, он вдруг широко улыбнулся, тотчас же запряг собак и двинулся в дальнейший путь.
Но только на этой последней стоянке и объяснилась для него тайна появлявшихся позади него на горизонте дымков. Когда было объявлено у Большого Лосося, что дорога уже накатана полицией до самого Пелли, то дымки позади сейчас же исчезли. Этого известия только и ожидали. Согнувшись около своего одинокого костра, Расмунсен с грустью увидел, как мимо него стали пролетать одни сани за другими. Первыми промчались курьер и метис, которые помогли ему выбраться на берег озера Беннет; затем на двух санях почта, направлявшаяся в Сёркл-Сити; а потом потянулись всякого рода люди, ехавшие в Клондайк. Все эти люди и собаки были сыты и здоровы, тогда как у Расмунсена собаки были истощены до такой степени, что походили на скелеты, обтянутые кожей. Люди, от костров которых шел в свое время дымок, продвигались вперед не спеша, только через два дня на третий, и берегли свои силы для того, чтобы сразу же ринуться в путь, как только полиция наладит дорогу; он же, не зная этого, каждый день то проваливался, то карабкался наверх, с трудом продвигаясь вперед, и понапрасну терзал и обессиливал своих собак.
Сам он по-прежнему оставался неукротимым. Все эти сытые, свежие люди любезно благодарили его за то, что он для общей пользы потратил столько усилий, прокладывая путь, — благодарили его горячо, но все же не скрывали от него своих улыбок во все лицо и не скупились на насмешки; и теперь, когда он понял, в чем дело, ему оставалось только молчать. Он даже не испытывал горечи. Да и стоило ли? Ведь факт остается фактом, а идея — идеей. Ведь и сам он и его тысяча дюжин яиц были все-таки здесь; а там, вдалеке, ждал Доусон.
Да, задача его нисколько не изменилась.
У Малого Лосося вышла вся провизия для собак; они забрались в его личные запасы и съели их целиком; начиная с Селкерка, ему пришлось поддерживать свои силы одними бобами, грубыми и тяжелыми для желудка, и у него каждые два часа так схватывало живот, что он корчился от боли. Хотя правительственный агент в Селкерке и прибил на дверях почты объявление, гласившее о том, что в течение двух лет ни одному пароходу не удалось из-за льда подняться вверх по Юкону, и потому цена на съестные припасы поднялась выше всякой меры, тем не менее он предложил Расмунсену произвести с ним обмен: за каждое яйцо он предлагал ему по чашке муки. Расмунсен ответил отказом и отправился далее. Где-то на задворках ему удалось купить замороженную лошадиную шкуру для своих собак. Лошади были ободраны еще чилкутскими погонщиками, а остатки от туш и отбросы были употреблены в пищу индейцами. Он и сам попробовал было пожевать эту кожу, но шерсть от нее стала застревать у него в ранках, которыми был усеян весь его рот от бобов, и он принужден был отказаться от этой пищи.
Здесь, в Селкерке, ему пришлось столкнуться с первыми беглецами из Доусона, напуганными голодом, а затем они стали попадаться ему на пути уже целыми толпами; у всех был жалкий, изможденный вид.
— Нечего есть! — говорили все они в один голос. — Нечего есть, и достать негде! Каждый бережет последнюю крошку для себя самого. Мука — по два доллара за фунт, и негде ее купить.
— А яйца?
Кто-то ответил:
— По доллару за штуку, да где их взять-то?
Расмунсен произвел быстрые вычисления.
— Двенадцать тысяч долларов! — сказал он вслух.
— Вы о чем? — переспросил его собеседник.
— Так, ничего… — ответил он и погнал собак вперед.
Когда он прибыл к реке Стюарт, в восьмидесяти милях от Доусона, у него пало сразу пять собак, а остальные еле передвигали ноги. Он и сам едва тащился, напрягая последние свои силы. И все-таки он делал по десяти миль в день. Его лицо и нос, много раз отмороженные, стали темно-кровавого цвета. На него было жутко смотреть. Большой палец, отделенный в рукавице от прочих пальцев, был тоже отморожен и причинял ему сильнейшую боль. На ноге оставалась по-прежнему повязка, и странная боль появилась в голени.