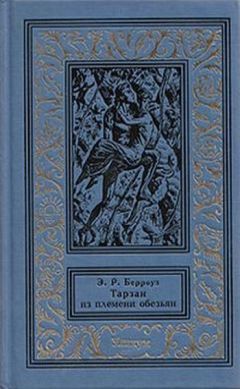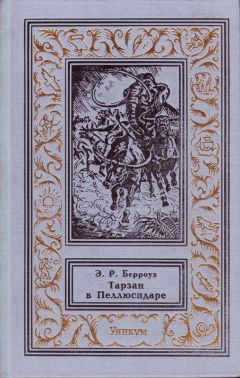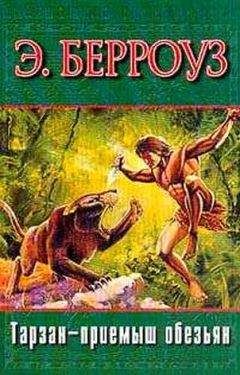Владимир Дружинин - Янтарная комната
— Не влечет, товарищ майор, — сказал я. — Что в ней? По сравнений с жизнью человека…
Для меня она была далека, как все мирное, — Янтарная комната; как дома «Девятый вал» в рамке, выпиленной лобзиком; как мои школьные учебники, закатанные чернилами; как плеск весел на Оке…
— Согласен, — молвил майор. — Человек дороже всего. Но ты ответь, можно запретить человеку идти на подвиг?
В тот день Бакулин долго не отпускал меня. И я изливал ему свою душу.
Астафьев — тот восхищал меня храбростью, хладнокровием в бою, но отдалял от себя суровостью. Причину он не скрывал. Война отняла у него всех близких. «Сердце из меня вынуто», — бросил он как-то, хватив трофейного шнапса. Бакулина я знал еще мало, чуточку робел перед ним, но тянулся к нему. Вырос я без отца и, должно быть, знакомясь со старшими, бессознательно искал отеческое…
Сегодня впервые Бакулин говорил мне «ты». Катя словно сблизила нас.
— Располагайте мной, товарищ майор, — сказал я. — Раз я допустил ошибку…
— Опять ты за свое… — Он покачал головой.
— Судить меня не за что. Верно, — отозвался я, — устав я не нарушил. А все-таки есть моя вина!
В чем она состоит, я не мог как следует объяснить. Чувствовал я себя как бы уличенным в трусости. От смерти в бою не бегал, а довериться человеку в решительную минуту смелости недоставало.
— Ну-с, ближе к делу! — отрезал Бакулин.
Я выслушал инструкцию. В Кенигсберг Катя приехала с двумя офицерами эйнзатцштаба — подполковником фон Шехтом и обер-лейтенантом Бинеманом. Известен еще шофер — Кайус Фойгт. Их и надо обнаружить прежде всего.
Я вышел.
Наводить справки, отыскивать кого-нибудь в чужом городе, только что занятом, — задача нелегкая. Я убедился в этом очень скоро. Фойгт как в воду канул. Не было никаких сведений ни об эйнзатцштабе, ни об его офицерах. В комендатуре пожимали плечами. Немцы — пленные и штатские — не знали или отмалчивались… На конец на третий день мне принесли пакет со штампом немецкого лазарета.
«Подполковник Теодор фон Шехт скончался 10 апреля от сердечного удара», — прочел я.
Среди несметного количества смертей, изобретенных людьми, естественная, невоенная причина казалась неправдоподобной. К тому же речь шла о фон Шехте — грабителе фон Шехте. Требовалась проверка.
Бакулин дал мне «виллис», и я поехал. Сперва машина колесила по центральным улицам, разгромленным бомбовыми налетами англичан, огибала завалы, воронки, противотанковые надолбы, поваленные деревья. Я держал на коленях план Кенигсберга. Двигаться среди руин было трудно. Потом мы вырвались в западную часть города, почти не тронутую бомбами. «Виллис» остановился у серого особняка. У подъезда, под тяжелым узорчатым железным фонарем, советский офицер-медик — потный, в расстегнутом кителе — растолковывал что-то немкам-санитаркам.
— Фон Шехт? — Медик поднял брови. — Совершенно верно, умер.
— Tot, tot, — закивали санитарки.
— Удар? — спросил я.
— Точно, точно, — подтвердил медик. — Я сам очевидец.
Одна из санитарок принесла небольшой желтый чемоданчик. Медик достал из кармана ключ.
— Документы умерших, — сказал он.
Синий сафьяновый бумажник с инициалами фон Шехта мне бросился в глаза сразу. Он словно аристократ, чванный, пузатый, раздвигал потрепанные паспорта и солдатские книжки. Вывалилось офицерское удостоверение, пропуск штаба гарнизона, два орденских свидетельства: одно — к железному кресту, другое — к кресту с дубовым венком. На фотоснимках — узкое лицо, словно рассеченное широким, плотно сжатым ртом, вдавленные виски, высокий, без морщин лоб. Год рождения 1898–й, сообщали документы. Но ему можно было бы дать и тридцать лет, и все пятьдесят. Лицо было без возраста… Вот пачка визитных карточек. «Фон Шехт» — стояло на них крупно, затейливой старинной вязью. Вспомнилась вилла «Санкт-Маурициус» — башенка, унизанная гипсовыми раковинами. И еще одна подробность возникла в памяти при взгляде на карточки. На каждой, в левом верхнем углу, красовалось изображение святого с черной негритянской головой. Того самого, что стоял в подвале виллы, в нише.
— Святой Маурициус, — произнесла санитарка постарше, и остальные опять закивали.
Уголок сложенной вчетверо бумажки торчал из бумажника. Я развернул.
«К ногам могучей немецкой империи складывает покоренная Россия сокровища, накопленные царями и блиставшие в их дворцах. Немец! Посмотри на эти трофеи! Они по праву принадлежат расе господ».
Бумажка перетерлась на сгибах, потеряла глянец, — фон Шехт, очевидно, давно хранил этот рекламный листок. Как сообщалось далее, выставка вещей из дворцового убранства открыта в Орденском замке, и в числе экспонатов — Янтарная комната из Екатерининского дворца в городе Пушкине.
Вот и все содержимое бумажника. «Пожалуй, только реклама выставки и представляет интерес», — думал я, трясясь в «виллисе». Теперь установлено по крайней мере, где показывали Янтарную комнату — предмет особых забот Кати.
— В замок! — приказал я водителю.
Орденский замок — в самом центре города. Первый раз я увидел его в день штурма. Багровое пламя вырывалось из окон угловой башни. Он стоял в клубах дыма, над пустырями, над грудами битого камня. Жилые кварталы окрест рухнули, а замок стоял. Ловкие мастера воздвигли когда-то это здание вышиной с восьмиэтажный дом. Бомбы, пожары сильно повредили его: стены местами обвалились, но он все же выдержал.
«От замка на зюйд», «мимо замка и вправо» — так говорили тогда у нас, уточняя направление. Он виден издалека. Но только теперь, поднимаясь по ступеням лестницы, ведущей к воротам, я почувствовал всю мощь древней твердыни. Замок словно придвинулся и навис надо мной. Угрожающе клонилась башня, мохнатая от опаленного, порванного плюща. Струйки дыма сочились из амбразуры, — внутри что-то еще горело.
От этого замка и пошел Кенигсберг. Оплот Тевтонского ордена, немецких псов-рыцарей был его началом, ее сердцевиной. Потом замок стал резиденцией прусских королей: Один из них — Фридрих-Вильгельм, — принимал здесь русское посольство во главе с Петром Первым… Но это все я узнал позднее.
Холодом, извечной сыростью камня, духом гнили пахнуло на меня во дворе. Есть ли тут где-нибудь жизнь? Мы миновали арку, вошли в следующий двор. Гудит мяч, — люди в голубоватых, застиранных халатах играют в волейбол; несет йодоформом. Санчасть. Рядом, в углу, у маленькой кирпичной пристройки толчется часовой. Верно, кладовая. На двери с замком дощечка: «Мин нет». А справа, в глубине двора, они, может, еще есть, — там ходят саперы, тычут в землю свои щупы. И какой-то штатский, коротенький, в помятой зеленой шляпе, увязался за офицерами, жестикулирует, зовет.