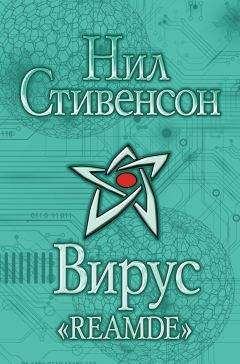Валерий Поволяев - Тихая застава
Каждому из офицеров было ведомо, что означает тот или иной вариант, ведомы не только прямой приказ и схема его исполнения, ведом и «подтекст» – то, что остается за полями бумаги, за простым разговором.
Точно так же поступали приказы и из отряда – иногда прямым текстом, иногда скрытым, типа: «В таком-то часу принимает баню» и так далее. Даже самый хитроумный душман сломает себе голову, разбираясь в таких текстах. А вообще-то в бою люди обходятся минимумом слов, да и те слова – матерные. Впрочем, что касается переговоров, которые сейчас капитан вел с командиром десантников, то он перестраховывался – можно было бы говорить открытым текстом.
– Время? – из далекого далека донесся едва различимый комариный голос Бобровского. – Сообщи время исполнения!
– Семь тридцать… Бобер, ты слышишь меня? Что за пожар в камышах на твоем правом фланге? Нас, что, душки собираются дымом, как комаров, отсюда выкурить?
Уловив далекий, едва различимый ответ, Панков удовлетворенно кивнул – Бобровский еще не знал, что у него погиб Назарьин, а прапорщик Грицук взят в плен, а раз этого не знал Бобровский, то не знал и Панков.
– У тебя все целы? – спросил он у Бобровского.
– Все, – ответил старший лейтенант, – хотя Взрывпакет с Грицуком что-то молчат, не отвечают. Но Взрывпакет – анархист известный, может все слышать и не отвечать, за ним такое водится…
Чара вернулась минут через пятнадцать, мокрая, будто попала в воду, с каплями, висящими на морде, прыгнула в окоп и, устало дыша, распласталась на дне.
– Молодец, Чара! – похвалил собаку капитан, платком вытер ей морду. Достал из-за ошейника записку, прочитал, обрадованно, будто предстояла выпивка, потер руки, по его лицу расползлась улыбка. – С ребятами все тип-топ, – сказал он радисту, – а насчет рации ты оказался прав: с тыла ударили очередью, повредили. Не жалеют душки наше «казенное имущество»…
Над окопом прошла дымная красная струя – трассирующая пулеметная очередь всадилась в камни где-то вверху, над головой, метрах в двадцати от «опорного пункта». Панков удивленно хмыкнул, сцепил зубы – что-то уж очень осмелели душманы, – привстал чуть над окопом, увидел недалеко среди камней ловко пластающегося по горе душмана. Душман был молодой, с некрасивой бородкой, портящей его лицо, и густыми, как две сапожные бархотки, сросшимися на переносице бровями.
Капитан быстро сообразил, куда и зачем ползет этот душман, что будет делать через три минуты, через пять и через пятнадцать минут, – ползет он, чтобы кинуть гранату в окоп командира, а потом, оглушенному, стянуть руки веревкой и получить хороший бакшиш.
«Ну-ну, сволота, давай, ползи… Давай ближе, – довольно безразлично, будто речь шла о пустяке, подумал Панков, аккуратно выставил перед собой ствол автомата, перевел “калашников” на стрельбу одиночными. – Давай, чтобы уж наверняка…»
Поймал концом ствола бледное далекое лицо, то исчезающее среди камней, то появляющееся, – очень уж спешит, торопится душок… А ведь не только он такой умный, не только он знает, где находится «опорный пункт» командира заставы, – знают и другие, только вот что-то не очень спешат, возложили эту обязанность на услужливого неопытного юнца.
Юнец, бледнея лицом, в очередной раз приподнялся над камнями, чтобы сориентироваться, так же, как и капитан, выставил перед собой автомат – засек Панкова, увидел его лицо, но Панков опередил душка, на войне всегда кто-нибудь кого-нибудь опережает, а опередив, выигрывает, – коротко и зло нажал на спусковой крючок «калашникова».
Автомат несильно и добродушно, как-то по-собачьи, играючи толкнул его в плечо. Панков нажал на спуск вторично, потом нажал в третий раз.
Все пули попали душману в лицо, он поднялся над камнями во весь рост и, хотя уже ничего не видел, ничего не слышал – лицо у него превратилось в кровянистый фарш, замахал руками, потом развернулся на сто восемьдесят градусов и сделал несколько шагов вниз, уходя от страшного панковского окопа. Не удержался, ноги у него подогнулись, и юнец с грохотом покатился по склону к каменистой гряде, крепостным валом отделяющей заставу от гор.
Следом зазвякал пусто, зашаркал битым прикладом по камням, запрыгал автомат.
– Ловко вы его, товарищ капитан, – восхищенно произнес Рожков, – попрыгал, как куренок.
* * *Уходили с заставы, отстреливаясь, короткими перебежками, а кое-где и ползком, держа и в голове, и в хвосте по пулемету, пусто хлюпая носами, тяжело дыша, не в состоянии отделаться от горькой, почти слезной тяжести, засевшей в груди, не взяв с собой почти ничего, – Панков не в счет, – лишь патроны, гранаты, остатки еды и медикаменты, неся на себе двух раненых пограничников – еще молодых, неотесанных, отслуживших лишь по году, и двух десантников Бобровского, угодивших под взрыв гранаты.
Когда оторвались от душманов, кинувшихся было им вслед, Панков задержался около командира десантников:
– Бобровский, нам надо два захода в сторону сделать: в кишлак, забрать там двух женщин, и в плавни – что-то там в камышах чадит. Останешься пока за старшего, а я пощупаю, что там за производство наладили душки в камышах… Да, на дороге стоят наши мины. Сними их, а потом поставь. Ладно? Я пройду в кишлак по боковой тропке. Дуров, отдай пулемет десантникам и – за мной! Кирьянов, Карабанов – также за мной!
– А я? – к капитану, запыхавшись, подгребся, едва справляясь с тяжелой рацией, Рожков. – Мне ведь всегда положено быть с вами!
Рожков был прав.
– Ладно, отдай рацию старлею и – за мной! – Панков снова повернулся к Бобровскому. – Сдается мне, что пропавший твой прапор находится в камышах.
– Тогда пойду я, – твердым голосом заявил Бобровский.
– Нет, тебе не надо. Ты веди людей к кишлаку, жди нас там. Мы придем в кишлак.
– А может, это и не Грицук в плавнях, – голос Бобровского сделался нерешительным, – может, лежит Грицук где-нибудь среди камней, как Взрывпакет, и ждет, когда его похоронят?
– И это тоже может быть. Все надо проверить…
Через минуту группа Панкова уже растворилась среди камней, а еще через десять минут бесшумно вошла в камыши. Панков шел первым, по-лисьи сгибаясь, проползая под выворотнями, почти бесшумно втискиваясь между толстыми и прочными, словно бамбук, стеблями, – казалось бы, камыш должен был шуметь, громыхать мерзлыми стеблями, выдавать каждый шаг людей, но камыш не шумел, лишь подергивал макушками, словно в нем перемещалась с места на место стая жирующих птиц, склевывала разное добро, застрявшие в метелках семена, мелких ракушек, улиток, клопов и тлю, прикипевших к стеблям, и летела дальше.
То, что увидел Панков на округлой, странно уютной поляне, заставило его присесть, зажмуриться – в горле у него что-то нехорошо заскрипело, виски обдало ознобным жаром: душманы на поляне мучили человека. Вернее, домучивали его. В то, что это был прапорщик Грицук, поверить было трудно: окровяненный, обугленный человек был еще жив, лицо его было покрыто черной коркой крови и гари, изо рта вместе с сукровицей наружу вырывался хриплый протяжный стон, подвешен человек был на крюк, болтался на нем, словно тяжелый упитанный бычок.