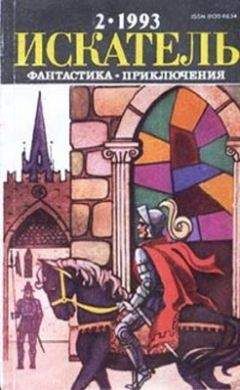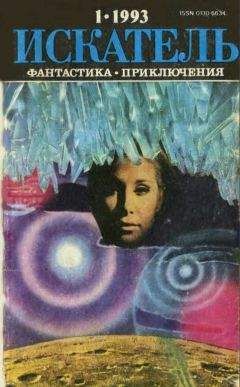Рафаэль Сабатини - Искатель. 1993. Выпуск №1
— Я сожалею, что приходится докучать вашей светлости в такой час, но умоляю простить меня. Должно быть, все сказанное вами справедливо. Плапы ваши — самые благородные, тем более что для их свершения нужно пожертвовать вашей плотью и кровью, то есть мной, вашей племянницей. Но я отказываюсь приносить себя в жертву. Возможно, мне не хватает величия души, а может, я недостойна высокого положения, на которое обречена с рождения волею судьбы. Поэтому, мой господин, — в голосе девушки звучала непреклонная решимость, — я не выйду замуж за герцога Баббьяно, не выйду, даже если бы этот брак скрепил союз сотни герцогств.
— Валентина! — воскликнул Гвидобальдо. — Не забывай, что ты моя племянница.
— Похоже, вы первым забыли об этом.
— Эти женские причуды… — Он не договорил, ибо девушка прервала его:
— Возможно, они напомнят вам о том, что я всего лишь женщина, и вы тогда поймете, что нет ничего более естественного для женщины, как отказаться выходить замуж по… по политическим соображениям.
— Отправляйся к себе! — скомандовал Гвидобальдо, не на шутку рассерженный. — И на коленях проси Господа нашего помочь осознать собственный долг, раз мои слова тут бессильны.
— О, скорее бы герцогиня вернулась из Мантуи, — вздохнула Валентина. — Добрая монна Элизабетта, возможно, выжмет из вас хоть каплю жалости.
— Мониа Элизабетта достаточно благоразумна, чтобы постараться убедить вас в необходимости этого союза. Дитя, воинственность тебе не к лицу, не надо упорствовать в неповиновении. Мы устроим такую пышную свадьбу, какой еще не знала Италия. Все принцессы позеленеют от зависти. Приданое тебе определено в пятьдесят тысяч дукатов, и обвенчает вас кардинал Джулиано делла Ровере. Я уже послал гонца в Феррару, чтобы несравненный Аникино изготовил для вас свадебный экипаж. Из Венеции привезут…
— Разве вы не поняли, что под венец я не пойду? — побледнев, как мел, но твердым голосом прервала его Валентина.
Гвидобальдо встал, тяжело оперся о трость с золотым набалдашником и, нахмурив брови, устремил взгляд на племянницу.
— О твоей свадьбе с Джаном Марией уже объявлено, — произнес он словно судья, выносящий окончательный, не подлежащий обжалованию приговор. — Я дал слово герцогу, что вы поженитесь, как только он вернется в Урбино. А теперь иди. Такие скандалы крайне утомительны для больного человека, да и несвойственны они нашей семье.
— Но, ваша светлость… — Теперь в голосе Валентины уже зазвучала мольба.
— Уходи! — взревел Гвидобальдо, топнув ногой, а затем, опасаясь столкнуться с прямым неповиновением, ибо чувствовал, что Валентина может остаться, повернулся и вышел первым.
Валентина еще постояла, тяжело вздохнула, смахнула с глаз сердитую слезу и последовала за дядей.
Она прошла длинной галереей, сверкающей новыми фресками Мантеньи. Миновав анфиладу комнат, пересекла ту, где несколько часов назад посмел прикоснуться к ней Джан Мария, оказалась на террасе — с нее открывался прекрасный вид на райские сады дворца. Села у фонтана на скамью белого мрамора, на которую одна из ее дам набросила алое бархатное покрывало.
Теплый воздух наполняли ароматы садовых цветов. Но мерное журчание воды в фонтане не успокоило девушку. Ее глаза устали от сверкающих в солнечных лучах, словно бриллианты, капелек, и она перевела взор на мраморную балюстраду, по которой разгуливал преисполненный достоинства павлин, а затем на цветущий сад, окаймленный строем тянущихся к синему небу кипарисов.
На террасе царили тишина и покой, нарушаемые лишь журчанием воды да редкими криками павлина, и лишь в душе Валентины продолжала бушевать буря. А затем новый звук донесся до ее ушей: поскрипывание гравия дорожки под мягкими шагами. Она повернулась. К террасе приближался улыбающийся Гонзага, как обычно, одетый в роскошный наряд.
— Моя госпожа, вы одна? — В голосе его слышалось удивление, пальцы легонько перебирали струны лютни, с которой он почти никогда не расставался.
— Как видите, — ответила она тоном человека, занятого своими мыслями.
Взгляд ее вновь вернулся к кипарисам, а про Гонзагу она словно забыла, думая о своем.
Но придворного не смутило такое пренебрежение. Он подошел к скамье, облокотился на спинку и чуть наклонился над Валентиной.
— Вы печальны, моя госпожа, — ласково проворковал он.
— Что вам до моих дум?
— Похоже, они грустны, моя госпожа, и я был бы плохим другом, если б не попытался отвлечь вас от них.
— Правда, Гонзага? — не поворачиваясь к нему, спросила Валентина. — Вы — мой друг?
Он склонился еще ниже.
— Ваш друг? Больше, чем друг, моя госпожа. Считайте меня вашим рабом.
Теперь она посмотрела на него и в выражении лица отметила ту же страстность, что звучала в его голосе. Отодвинулась, и он уже подумал, что его ждет суровый выговор за проявленную дерзость. Но Валентина указала на скамью рядом с собой.
— Присядьте, Гонзага.
Он повиновался, еще не веря свалившемуся на него счастью, опустился на скамью, засмеялся, возможно, чтобы скрыть робость, снял украшенную драгоценной пряжкой шляпу, положил ногу на ногу, поставил лютню на колено. Его пальцы вновь прошлись по струнам.
— Я написал новую песню, — объявил он с явно наигранной веселостью. — В подражании бессмертному Никколо Корреджо, сочиненную в честь той, чью красоту невозможно описать словами.
— Однако вы поете о ней?
— Песня моя лишь признание бессилия человеческого языка. — Он пропел несколько слов своим сочным баритоном, но Валентина остановила его, коснувшись руки.
— Не сейчас, Гонзага. Я не в настроении и не смогу по достоинству оценить вашу песню. Не сомневаюсь, она очень хорошая.
Тень разочарования и уязвленного тщеславия промелькнула на его лице. Обычно женщины жадно вслушивались в слагаемые им песни, наслаждаясь как изяществом его слога, так и сладкозвучностью голоса.
— О, ну что вы так насупились, — Валентина даже улыбнулась. — Сегодня мне не до песен, но все еще переменится. Простите меня, милый Гонзага. — Разумеется, перед нежностью ее речей не мог устоять ни один мужчина.
А потом с ее губ сорвался вздох. Валентина всхлипнула, сжала пальцами руку Гонзаги.
— Друг мой, у меня разрывается сердце. Лучше бы вы оставили меня в монастыре святой Софьи.
Гонзага повернулся к ней — взгляд его был полон сострадания — и спросил, кто же обидел ее.