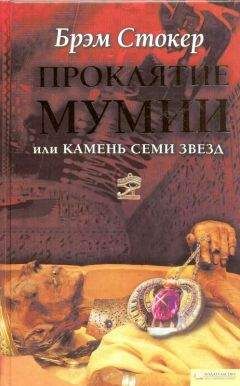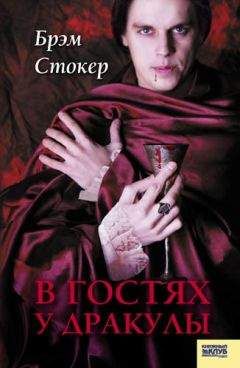Брэм Стокер - Леди в саване
— О, я так замерзла, так замерзла!
Зубы ее стучали. Мне было больно смотреть на нее, и в отчаянии — ведь я уже терял разум, не зная, что делать дальше, — я произнес:
— Скажите же мне, чем я могу помочь вам, и я все сделаю. Мне нельзя позвать на помощь; здесь нет огня, и не из чего его развести; вы не хотите выпить бренди. Как же, в конце концов, я могу согреть вас?
Ее ответ, конечно, удивил меня, хотя рассуждала она практически, настолько практически, что я и не осмелился бы сам заговорить об этом. Прежде чем ответить, она несколько секунд смотрела мне прямо в лицо. Затем с видом невинной девушки, уничтожившим все мои подозрения и сразу же убедившим меня в ее искреннем доверии ко мне, она произнесла голосом, который мгновенно взволновал меня и пробудил во мне глубокое сострадание:
— Позвольте мне ненадолго прилечь и укройте меня пледами. Так я, наверное, согреюсь. Я умираю от холода. И я смертельно напугана… смертельно напугана. Сядьте возле меня и позвольте мне держать вашу руку. Вы большой, сильный и храбрый на вид. Это меня успокоит. Я и сама не из трусливых, но сегодня ночью страх схватил меня за горло. Я едва дышу. Позвольте мне остаться, пока я согреюсь. Если бы вы знали, через что я прошла и что еще мне предстоит узнать, вы бы сжалились надо мной и помогли мне.
Было бы преуменьшением сказать, что я удивился. Но возмущен я не был. Жизнь, которую я вел, никогда не сделала бы из меня ханжу. Путешествовать в чужих краях среди чужих народов с чуждыми мне обычаями и взглядами — это значит время от времени обретать странный опыт и переживать необычные приключения; человек без человеческих страстей не годится для той жизни странника, которая стала мне привычной. Но даже человек искушенный может быть возмущен женщиной, вызывающей у него уважение, а также может быть смущен. Все его великодушие будет ей защитой в таком случае. И все его умение держать себя в руках. Даже если она поставит себя в двусмысленное положение, ее честь будет взывать к его чести. И этот зов нельзя оставить без ответа. Страсти должны затихнуть на время — когда звучит этот призыв.
К этой женщине я испытывал уважение… большое уважение. Ее молодость и красота, ее явное неведение зла, ее полное презрение к условностям, свидетельствующее о передаваемом по наследству достоинстве, испытываемые ею чудовищный страх и муки, — а ее несчастье, должно быть, было намного тяжелее, чем представлялось, — все заслуживало уважения, пусть кто-то и не поспешил бы проявить его. Тем не менее я подумал, что следует отказать ей в подобной смущающей просьбе. Я, конечно же, чувствовал себя дураком, отказывая ей, даже невежей. Честно могу сказать, я делал это ради ее блага, из лучших побуждений. Я испытывал чудовищную неловкость, я заикался и запинался, когда произнес:
— Но приличия!.. Вы здесь одна… ночью! Что скажут люди… ведь благо… благопристойность…
Она прервала меня с неописуемой надменностью, от которой я захлопнул рот так же поспешно, как сложил бы складной нож; я почувствовал себя полным ничтожеством, абсолютно нелепым. В ее позе при этом было столько грациозной простоты и искренности, столько сознания своего высокого положения, что я не мог ни разгневаться, ни оскорбиться. Я только устыдился узости своего ума и убогости своей морали. Она предстала олицетворением гордости, когда холодная как лед телом, а теперь обнаружив и леденящие пределы, в которых пребывал ее дух, произнесла:
— Что для меня приличия и условности? Если бы вы только знали, откуда я явилась… какое существование (если его можно так назвать) веду… это одиночество… этот ужас! А кроме того, мне пристало устанавливать правила, а не ограничивать ими мою свободу действий. Даже такая… даже здесь, в этом одеянии… я выше условностей. Меня не заботят условности, они для меня не препятствие. Это, по крайней мере, я заслужила в силу того, что испытала, пусть и не каким иным путем. Позвольте мне остаться.
Последние слова, несмотря на все свое высокомерие, она произнесла умоляющим тоном. И однако печать гордыни лежала на всем, что она произносила и совершала, — на ее жестах и движениях, тембре голоса, величавой осанке, прямом взгляде ее открытых, сияющих как звезды глаз. Что-то неповторимо величественное было в ней, так что, оказавшись лицом к лицу с этим и с ней самой, я, робко попытавшийся предостеречь ее от безнравственного шага, увидел себя ничтожным, нелепым, ведущим неуместный спор. Я молча достал из старого шкафа охапку одеял и несколькими из них накрыл ее, ведь она уже успела откинуть покрывало и лечь на кровать. Я пододвинул стул и сел подле нее. Когда она высвободила руку из-под горы одеял, я взял ее руку в свою и сказал:
— Согрейтесь и отдохните. Засните, если сможете. Вам нечего бояться — я буду вас охранять.
Она взглянула на меня с благодарностью, ее лучистые как звезды глаза загорелись ярче, что было странно, ведь я своим телом заслонял свет восковой свечи…
Она была чудовищно холодной, ее зубы стучали столь громко, что я уже стал опасаться, не нанесла ли она себе какой-нибудь страшный вред, промокнув, а затем переохладившись. Но я испытывал неловкость и не знал, как выразить словами мои опасения; более того, я и не осмеливался сказать что-нибудь о ней, еще не забыв высокомерие, с которым она восприняла мои недавние, высказанные из лучших побуждений возражения. Я явно был для нее лишь средством получить убежище и тепло, совершенно обезличенным, безликим. В ситуации такого уничижения что еще мог я делать, как не сидеть бездвижно и ждать развития событий?
Понемногу чудовищный стук ее зубов начал стихать — когда тепло постели проникло в нее. Я тоже, даже в такой нелепой позе бодрствования, почувствовал расслабляющий покой, и ко мне подкрался сон. Я пытался отогнать его, но, поскольку не мог сделать резкого движения, не потревожив мою странную и прекрасную соседку, мне пришлось уступить, и я задремал. Я по-прежнему пребывал в состоянии парализующего удивления, так что даже не владел мыслями. Мне оставалось только следить за собой и ждать. Прежде чем мне удалось сосредоточиться, я заснул.
Меня пробудил ото сна, крепко меня сковавшего, крик петуха в одном из надворных строений замка. В тот же миг фигура, лежавшая бездвижно, если бы не едва заметно приподнимавшаяся и опускавшаяся грудь, неистово задергалась. Петушиный крик преодолел врата и ее сна тоже. Она поспешно выскользнула из кровати и, встав во весь рост, громко зашептала:
— Выпустите меня! Я должна идти! Я должна идти!
К этому моменту я совсем проснулся, и вся картина целиком тотчас проникла в мое сознание и навечно в нем запечатлелась: тусклый свет почти полностью сгоревшей свечи, казавшийся еще слабее из-за того, что серый проблеск утра прокрадывался в комнату по краям тяжелой шторы; высокая стройная фигура в коричневом халате, волочившемся по полу, темные волосы, блестевшие даже в неярком свете, или, скорее, пронзительно-черные от мраморной белизны лица, на котором черные же глаза горели звездами. Она торопилась как одержимая, ее нетерпение было просто неописуемым.