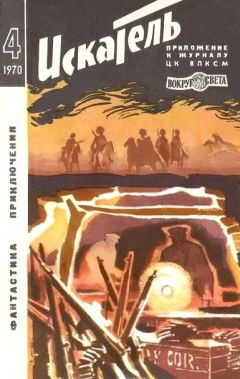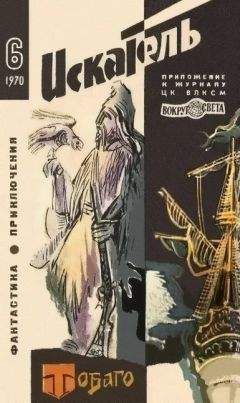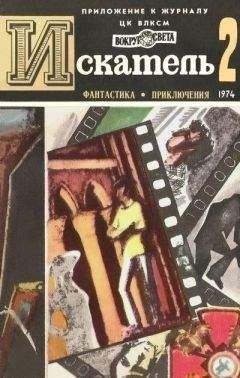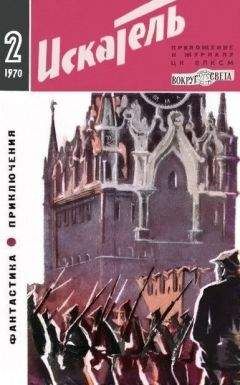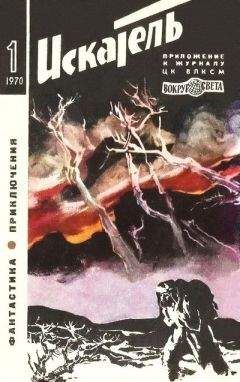Аркадий Адамов - Искатель. 1970. Выпуск №5
Допрос Ванцетти продолжался полтора дня. Затем показания давал Сакко, Кацман понимал, что более темпераментный Сакко не сможет продержаться так же спокойно, как его товарищ, и решил это использовать.
После выяснения ряда второстепенных подробностей Кацман осторожно подвел Сакко к истории с поездкой в Мексику.
— Вы говорите, что любите нашу свободную страну. Скажите, а в апреле 1917 года вы ее любили? Вам понятен вопрос? Тогда, пожалуйста, отвечайте.
— Я не могу ответить одним словом, — настаивал Сакко.
— Вы поехали в Мексику, — начал Кацман, — чтобы не стать солдатом той страны, которую вы любите?
— Да, — ответил Сакко, глубоко вздохнув.
— Как вы понимаете проявление вашей любви к этой стране?
Сакко молчал. Он знал, что ему ответить на этот вопрос, но барьер чужого, неродного языка преграждал путь его мыслям, не давал им воплотиться в твердые, почти ощутимо жесткие английские слова. Вместо всех певучих, пламенных итальянских слов и точных, звенящих гласными фраз он произнес короткое и безликое английское «Yes» — и сразу же увидел ехидную, заранее приготовленную улыбку Кацмана.
Здесь вмешались представители защиты. Помощник Мура — Джерри Маканарни, представитель респектабельной бостонской адвокатской фирмы, бывший на процессе официальным защитником Сакко, заявил, что он возражает против этих вопросов обвинения. Маканарни, стараясь как можно мягче объяснить политическое положение обвиняемых, сказал, что «этот человек и Ванцетти принадлежат к классу социалистов, что год назад в апреле происходили волнения, людей высылали; тысяча двести — тысяча пятьсот человек были арестованы в самом Массачусетсе».
Уэбстер Тейер его перебил:
— Собираетесь ли вы утверждать, что то, чем занимались подзащитные, было в интересах Соединенных Штатов и было направлено на предотвращение дальнейших преступлений со стороны властей? — Тейер весь дрожал от возмущения, пенсне — съехало с его переносицы и звякнуло о стол.
— Ваша честь, пожалуйста, — ответил возмущенный явным передергиванием его слов Маканарни, — я протестую против заявления вашей чести, так как оно нарушает права подзащитных, и прошу, чтобы это заявление не учитывалось присяжными.
— Протест отклоняется, — зло проскрипел Тейер, подбирая со стола пенсне и протирая его.
Когда Кацман после долгого препирательства с защитой вернулся к тому же вопросу, Сакко, казалось, полностью овладел собой и заговорил, упорно пробиваясь сквозь дебри английской фразеологии и фонетики. Он вспоминал свое детство, свои первые дни и годы на американской земле.
— Когда я здесь начал работать очень тяжело и работал тринадцать лет, тяжело работал, и я не мог отложить денег в банк. Я не мог послать своего мальчика в школу, многого не мог… Я мог видеть лучших людей, интеллигентных, образованных, их арестовывали и посылали в тюрьму на годы и годы. И Дебс,[8] один из великих людей этой страны, он в тюрьме, все еще в тюрьме, потому что он социалист… Он хотел, чтобы у работающего класса была лучшая жизнь, больше образования, чтобы можно было послать сына в школу, но его бросили в тюрьму. Почему? Потому что капиталистический класс не хотел всего этого, потому что капиталистический класс не хочет, чтобы наш ребенок пошел в школу, в колледж или Гарвард… Я хочу, чтобы люди жили по-человечески…
В зале было тихо. В клетке Ванцетти, подавшись вперед, напряженно слушал товарища. Репортеры поспешно записывали слова Сакко. Розина, его жена, нервно закусила край платка. А Сакко продолжал:
— Мы не хотим воевать, не хотим уничтожать молодежь. Мать, страдая, выращивает сына. Наступает день, когда нужно немного больше хлеба, и в это время мать хочет получить от своего сына этот хлеб, а Рокфеллеры, Морганы и другие, из высшего класса, посылают его на войну. Почему? Что такое эта война? Это не как во времена Линкольна и Джефферсона, — воевать за свободу своей страны, за лучшее образование… Она, война, — для больших миллионеров. Не за цивилизацию человека. А для бизнеса, заработать миллион долларов. Кто дал нам право убивать друг друга? Я работал с ирландцами, с немецкими рабочими, с французами, — с многими другими. Почему я должен идти убивать таких же, как они, людей? Я не верю в войну. Я хочу уничтожить все пушки…
Кацман с видимым удовольствием слушал эту исповедь Сакко. Для него исход этой игры уже не вызывал сомнений. При таком составе присяжных, какой ему удалось организовать, Кацман считал, что Сакко своей необузданной речью, полной социалистических высказываний, сам подписал себе приговор. И когда в полной тишине, воцарившейся в зале после заключительных слов Сакко, Кацман взглянул на присяжных, он понял, что добился своего. Присяжные растерянно переводили взгляды с Сакко, продолжавшего в задумчивости стоять на свидетельском месте, на Тейера, который невидящим взглядом смотрел прямо перед собой, скривив рот в брезгливой гримасе…
Было шесть часов, когда Кацман заканчивал свою заключительную речь. Обращаясь к присяжным, он патетически произнес:
— Вы здесь советчики, джентльмены, все двенадцать человек, и стороны пришли к вам и просят найти, где правда по вопросам виновности и невиновности. Мужи жюри, выполните свой долг. Поступите, как поступают мужчины. Будьте едины, мужи Норфолка!
Этот вечер судья Уэбстер Тейер провел в университетском клубе в Бостоне, готовя свою заключительную речь — наказ присяжным. Формула его была основана на обычных юридических трюизмах: человек невиновен до тех пор, пока не доказана его виновность, что разумное сомнение — это сомнение разумного человека, что косвенные доказательства иногда могут быть столь же вескими, как и прямые, и так далее. Подобно всем тщеславным людям, Уэбстер Тейер стремился придать своей заключительной речи совершенство литературного произведения. Неопределенные и порой двусмысленные метафоры одна за другой соскальзывали с его пера на бумагу: «Пусть звезда справедливого суждения и глубокой мудрости направляет ваши шаги в прекрасное царство, где верховенствуют Сознание, Повиновение Закону и Богу».
Утром, встретившись в столовой клуба с Джорджем Крокером, известным юристом, Тейер подсел к его столу. Еще до этого несколько раз в течение месяца Тейер заговаривал с Крокером о разбираемом деле. И в этот раз он обрушил на Крокера длиннейшие тирады о необходимости для настоящих американцев сплотиться против угрозы «красных», вроде тех, кого он сейчас судит. Старый консерватор, Крокер был шокирован поведением Тейера. Он считал даже упоминание разбираемого дела нарушением судейской этики и права обвиняемых на беспристрастный суд. И когда Тейер извлек из кармана листки со своей заключительной речью — наказом присяжным, и стал цитировать целые абзацы, Крокер был так возмущен, что потерял всякий интерес к своему грейпфруту. Покидая столовую, Крокер предупредил метрдотеля: