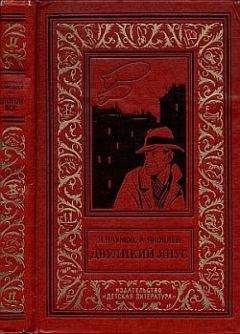Яков Наумов - Тонкая нить
— Еще воды? — не пытаясь скрыть сарказма, спросил Луганов.
— Нет, спасибо. Вы думаете, я боялся ответственности, думаете, меня преследовал страх наказания? Нет! Я считал себя вправе судить Ольгу и собственноручно привести приговор в исполнение. Так я и сделал. Но потом, когда все это произошло, когда Ольги не стало, на меня навалился такой ужас, что жить стало невмоготу…
— Почему же в таком случае, — перебил его Луганов, — вы не пришли сюда, к нам, не признались во всем? Почему лгали и изворачивались до последней минуты? Почему, наконец, преспокойно распродавали вещи вашей бывшей жены, пытались спрятать ее чемодан? Какой уж тут «мрак», какой «ужас»! Да у вас каждый шаг рассчитан, все продумано. Нет, Капитон Илларионович, не сходятся у вас концы с концами, никак не сходятся.
— Понимаю. Вам, конечно, трудно мне поверить, слишком глупо я себя вел. Но я считал все это своим личным делом, своим горем, которое нес и хотел нести сам, ни с кем не разделяя. Клянусь вам, я говорю правду.
— Ну, на правду-то это не очень похоже, — заметил Миронов. — Будто вы не знали, что убийство есть убийство и сурово карается законом. Оставим, однако, пока в стороне ваши рассуждения. Вы до сих пор не потрудились объяснить причин, толкнувших вас на убийство.
— Боже мой, да это же ясно! Ольга измучила меня, истерзала. Она третировала меня, измывалась над моим достоинством, предпочла мне другого. Вы представить себе не можете, что такое ревность, дикая ревность…
— Значит, вы убили свою жену из ревности, так вас надо понимать?
— Да, из ревности.
— А поводом к ревности послужило все то же письмо? — В голосе Миронова послышалась неприкрытая насмешка.
— Да при чем здесь письмо?.. Хотя, конечно, и письмо сыграло свою роль, оно переполнило чашу.
— Опять не кругло, Черняев. Ведь мы с вами уже установили, что письмо было адресовано не вашей жене, а соседке по квартире. Какую же чашу оно переполнило?
— Но я-то, я-то ведь этого не знал, уверяю вас. Я нашел письмо у Ольги, у своей жены, а она сказала, что это ее письмо, ей адресовано. Мог ли я в этом усомниться? Да и не в письме дело. Вы бы только знали, как последний год Ольга обращалась со мной, как разговаривала, как глядела на меня!.. Нет, я не в силах даже вспоминать о тех страданиях, тех муках, которые терпел от нее ежечасно, ежеминутно… И ведь я ее любил, любил, — это вы можете понять? Не мог я смириться с той мыслью, что она уйдет к другому. Не мне — так никому, так я рассуждал. Убить, уничтожить — об ином я и не помышлял. Когда я подумал об этом впервые, то ужаснулся, но день ото дня, час от часу решение зрело, крепло. И вот результат…
Черняев замолк. Он опустил голову, поник.
— Как же вы осуществили свое решение? — задал вопрос Луганов. — Только попрошу рассказывать точно. Для следствия это необходимо. И правду.
— Как осуществил? О, я долго вынашивал разные планы. Путь, сама того не ведая, подсказала Ольга. Когда она сообщила о своем намерении уехать, решение пришло мгновенно. Мы с ней договорились, что во избежание огласки представим дело так, будто она едет на курорт. Лечиться. Достать путевку и билет на поезд было моей заботой. Сделал я это без труда. Но, вручив Ольге путевку, билет попридержал, взял его не на двадцать восьмое — день отъезда, а на двадцать девятое мая, никому не сказав об этом ни слова. Дальнейшее было просто. Двадцать восьмого мая мы отправились на вокзал, и все: соседка наша, Зеленко, работница, шофер, знакомые, у меня на работе, словом, все были уверены, что Ольга Николаевна уехала. На вокзале же в момент посадки на поезд обнаружилась «ошибка». Билет был недействителен. Ольге пришлось вернуться домой, в пустую квартиру: Зеленко ушла на дежурство, — я это знал заранее. У меня оставался последний шанс: я просил Ольгу выбросить из сердца того, другого, умолял ее, угрожал… Все было тщетно. Она и слушать меня не хотела. Тогда… тогда я ее ударил, сбил с ног… — Черняев всхлипнул и закрыл лицо руками. — Надо ли говорить дальше? — тихо спросил он.
— Знал кто-нибудь о совершенном вами преступлении? — задал вопрос Луганов.
— Нет, что вы, кто же мог знать?
— Ударили вы левой или правой рукой? — внезапно спросил Миронов.
— Я? Конечно, правой. Я же не левша.
— А есть среди ваших знакомых, друзей левша? — продолжал спрашивать Миронов.
Черняев смотрел на него с недоумением.
— Нет, как будто бы нету. Не знаю. Я как-то не задумывался над этим. А какую это играет роль?
— По-видимому, кое-какую играет. Впрочем, раз нет, так нет. Вернемся к делу. Что вы можете еще добавить к своим показаниям?
— Я сказал все. Судите меня, расстреляйте — один конец. Жизнь кончена.
Миронов усмехнулся, не спеша закурил, глубоко затянулся и задумчиво заговорил:
— Смотрю я на вас, Черняев, и диву даюсь. Кто вы такой? Советский человек, офицер, не один год в партии, а как рассуждаете? «Я приговорил», «я привел приговор в исполнение», «мое личное дело», «я», «мне», «мое». Да кто вам дал право распоряжаться человеческой жизнью? Где вы такого набрались? Я уже не говорю о советских законах, которые вы попираете на каждом шагу, но ведь есть общеизвестные нормы поведения, правила человеческого общежития. Вам и на них наплевать. Сначала вы собственными руками расправились со своей женой — совершили убийство, и не считаете себя преступником. Теперь вы так же легко решаете, какой мере наказания вас подвергнуть, как распорядиться вашей судьбой. Странно как-то все это у вас получается. Странно и… не вполне понятно. Да и декларациям вашим грош цена. «Все сказал!», «Во всем признался», «Судите», «Расстреляйте!» Какое там все?! Вы еще и не начали говорить…
Черняев было попытался заговорить, но Миронов решительным и властным жестом оборвал его:
— Да, да. Вы еще и не начали говорить, следствие только начинается. Ну, что вы рассказали? В чем признались? Разве что убили Ольгу… Величко?
— А этого вам мало? — вскочил Черняев. — Этого мало?! Да я… я… вы…
Черняев упал в кресло и схватился за голову.
— Да понимаете ли вы, — процедил он сквозь стиснутые зубы, — какой ценой далось мне это признание? Чистосердечное признание… Можете вы это понять? Можете?..
— Понять-то я могу, — усмехнулся Миронов. — Было бы что понимать. Так что давайте без трагедий. Ну, о каком признании вы говорите, да еще чистосердечном? В чем это вы сами, добровольно, чистосердечно признались? Да ни в чем, ну ровно ни в чем. Сообщили обстоятельства убийства Ольги Николаевны… Величко? Так нам это и без вашего «признания» было известно, и вы заговорили только тогда, когда это поняли. Какова цена вашего «признания»? Да, да, вы признались под тяжестью неопровержимых улик, рассказывали лишь о том, в чем были изобличены. Не больше. Нет, Черняев, разговор у нас далеко не кончен, он только начинается…