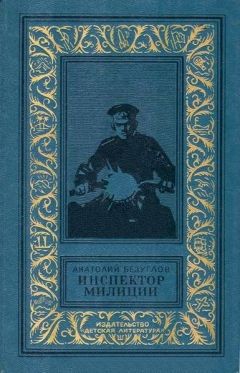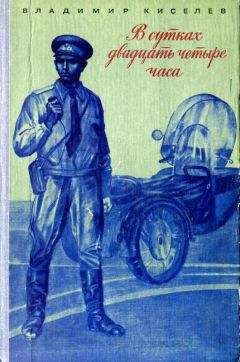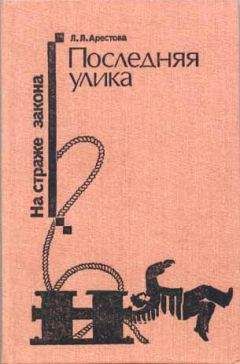Юрий Смирнов - Переступить себя
— Чужую беду руками разведу, — хмуро попенял ему Михаил.
— Не серчай, парень, — Евсеич сразу потерял к нему интерес. — Как примстилось, так и сказалось. В лесу живу, оброс дурью…
Долго саднила душа после того разговора с лесником. Встреча с ним в тот раз была вроде бы случайной, а на самом деле Михаил давно искал ее. И вот оказалось, что податься в лесники — это не выход, несколькими словами старик разрушил то, что Михаил лелеял в себе бессонными ночами. Но что же делать? Ведь как-то надо спасать Таню. В последнее время он остро чувствовал, что и себя самого тоже надо спасать… «Пойду к старику завтра, решил Михаил, попытка — не пытка. Поживем здесь годика три, сынишку определим в интернат. Поживем, оглядимся, подумаем, мы же взрослые люди, и было же, было…»
А костер горел, шелестя и потрескивая, а кизячий дымок першил в горле, выбивал слезу. Михаил глубоко втянул этот забытый запах. Больно и горько ворохнулось сердце: то был запах его детства. И не стало у костра тридцатилетнего, неудачливого и не приспособленного к людской суетливой жизни человека — сидел мальчишка, отрок, с неясными, только что пробудившимися желаниями, а костерок, ало-сизый кизячный холмик, у которого сидел он на теплой вечерней земле, был разожжен не им, а его молодой вдовой матерью; за скудным столом под навесом она пила чай с двумя старшими сестрами, тоже вдовыми. Выпили сестры весь самовар и, голодные, затянули старинную протяжную песню и незаметно отдались ей, нелепо, жалко и истово помогая себе движениями рук, сминая слова тоской и рыданием. И он впервые о чем-то смутно догадался, его, худенького, робкого, тихого мальчика, захлестнула мужская жалость к матери и теткам; он заплакал. А они пели, кизячный дымок пластался по двору, пугая комаров, тонкий немощный месяц светил, приглушенно синела разлившаяся вокруг деревеньки полая вода, и где-то там, в ее таинственных холодных просторах, переливчато, одиноко кричали ночные птицы. Давно уже нет матери, разбрелись по свету тетки, а отрок, который верил, что будет жить прекрасно и даже знал, как это — жить прекрасно, с годами растерял свое знание. Да что там — за пятнадцать последних лет он ни разу не был в родной деревне, не припал губами к земле у могильного холмика, не прошептал забытых слов, не попросил прощания у родимой… Вспомнив это, Михаил застонал от невозможности вернуть все и, недоумевая, негодуя и ничего не в силах с собой поделать, вытащил записную книжку, куда вносил всякие мелочи по работе, стал писать в ней о том, над чем казнилась и чем счастлива была его душа. Никогда раньше он такими глупостями не занимался, и, наконец, измучившись до жаркого пота меж лопаток, он отбросил книжку в сторону. И все-таки стало ему легче… И яснее стало. Нет, бросить Таню он не сможет, все в нем противилось предательским словам лесника.
Натянув шапку и прикрывшись кожухом, он лег у костра.
В эту свою ночь в лесу он проснулся всего один раз, приподнялся на локте и строго, без удивления, полностью доверяя себе, смотрел, как рядом, на матово-черном зеркале воды, молча ходили белым хороводом русалки. Потом от хоровода отделилась одна и подошла к нему в подвенечном платье и фате, и это была его Таня, какой он знал ее десять лет назад, в день их свадьбы. Она прикоснулась рукой к его лицу, ладонь ее была теплой, и сердце его задрожало, он откинул кожух и обнял ее благодарно. Она пришла к нему юной и его сделала таким же, и он уснул снова, самый счастливый человек на свете.
А на свете не было человека несчастнее его. Потому что в этот час погибла насильственной смертью тетка Ариша Рудаева.
Но пока об этом никто не знал.
Не знала Мария Андреева, уже забеспокоившаяся, потому что хозяйка не ночевала дома. Не знали ни соседи, ни знакомые, ни те, кто, как и Михаил Бурлин, никогда не видел ее в глаза. Да и что этим людям тетка Ариша? Кому мешала? Кого задела?
Глава вторая
Токарь Иван Бурцев заканчивал смену. И надо же: чуть ли не на последней минуте отказал универсальный станок ИК-62. Иван, любя, называл его «Костей». Был большой шут… Мастер участка Петр Федорович Касаткин ругал Ивана на чем свет стоит, и поди докажи ему, что «Костя» всю неделю работал на той эмульсии. Правда, кое-какой недогляд был и за Иваном, поэтому на эмульсию он напирал не слишком настырно: старика Касаткина не проведешь. Так день славно начинался — и на тебе, получил Иван плюху… И еще увесистее получит ее в понедельник, когда выйдет из отгула мастер смены Михаил Бурлин. Веселый тогда будет денечек у Ивана.
Но, спрашивается, чего ради казнить себя неприятностями будущими? Унылым самоедством Иван Бурцев никогда не занимался. Иван был молод, силен, добродушен и незлобив, его могучая натура была настроена на радость, понимала и чувствовала только ее, а всякие там душевные штучки-дрючки сгорали в нем мгновенно и дотла. Сойдя с автобуса на своей остановке, Бурцев и думать забыл о сломанном станке.
Упругим шагом он спешил домой — к жене, двум дочкам-погодкам и старому отцу. Обычно дочки выбегали ему навстречу, но нынче что-то, наверное, случилось: у калитки ждал отец. Иван, подходя, вгляделся, спросил шутливо:
— Батя, ты не на сковородку ли сел ненароком?
— А и тебя счас посажу, — пообещал отец и, взяв Ивана за руку, повел в дальний угол подворья. Там, в простенке меж гаражом и забором, стояло обшарпанное цинковое ведерко. Иван заглянул в него… Долго глядел… Видел обрывок цветастого халата и понимал, что это — обрывок цветастого халата, а все остальное, что комком лежало в ведре, — этого он понять и принять никак не мог.
Отец сзади потянул его за ворот рубашки. Иван разогнулся, спросил шепотом:
— Эт-то что?
Не отвечая, отец опять взял его за руку и повел в дом. Лида, бледная, сидела на кухне. Здесь отец и рассказал, что в метрах пятистах от их дома, в ерике, нашли мешок, а в нем труп женщины. Сейчас на том месте милиция, прокуратура, собаку привозили, она туда-сюда потыкалась и села… Иван слушал в оцепенении, ничего не понимая. Какая-то собака, какое-то ведро, а в нем… Зачем? Почему? Откуда?
— Ты мужик аль кто?! — прикрикнул отец.
И вовремя прикрикнул. Что это в самом деле? Раскис как сопливый мальчишка… Иван помотал головой, стряхивая оцепенение, спросил строго:
— Батя! Ты убивал?
— И-и, дурень… Язык-то как у тебя повернулся?
— Лида!
Лида залилась негодующими слезами. Тогда Иван ткнул себя в грудь и заявил ответственно:
— И я не убивал. Значит, что? Сажусь в машину, дую на ерик и если милиция еще там, приглашаю в машину, берем собаку, возвращаемся. Там, ясное дело, тьма народу до милиции побывала, следы затоптаны, а от нас, глядишь, собака след и возьмет. Резонно?