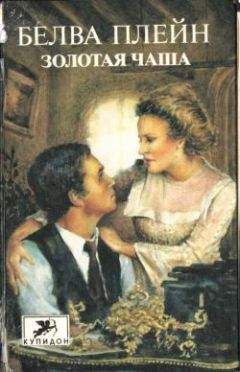Джон Стейнбек - Золотая чаша
Он медленно вернулся в свое кресло в Приемном Зале, мучимый стыдом за такое поношение своей мужественности. Словно она выхватила из ножен его шпагу и исцарапала ему лицо острым кончиком, а он покорно стоял перед ней и терпел. Она взяла верх над ним словно бы без малейших усилий. И теперь он содрогался при мысли, как будут хохотать его люди, когда узнают, в какое дурацкое положение он попал. За спиной у него зашелестят смешки. Кучки пиратов будут замолкать при его появлении и хвататься за животы, едва он пройдет мимо. Мысль об этих тайных смешках ввергла Генри Моргана в ужас. В нем подняла свои многочисленные головы гидра ненависти. Ненависти не к Исобель, но к его подчиненным, которые будут смеяться над ним, к жителям Тортуги, которые будут рассказывать эту историю в кабаках, ко всему побережью и островам.
Тут из тесной темницы за садом донесся пронзительный голос, взывающий к Пресвятой Деве. Въедливый звук наполнил дворец лихорадочной какофонией. Обостренный стыдом слух Генри Моргана выискивал скрытую насмешку в словах или в тоне. И не находил. Вновь и вновь пронзительно возглашалось «Аве, Мария»… «Аве, Мария»… и тоном изнывающей от ужаса, молящей о милосердии грешницы: «Ора про нобис — молись за нас!» Сокрушенный мир, почернелый скелет золотого города… Молись за нас! Ни тени насмешки, но смиренное раскаяние сокрушенного сердца, возносящего умиленную мольбу под щелканье четок. Пронзительный женский голос, всепроникающий, исступленный, он словно бился об огромный, не знающий прощения грех. Она сказала, что это — грех искренности. «Я была честна сущностью моей, а для души это черная ложь. Прости моему телу его человечность. Прости моему рассудку, знающему свою ограниченность. Прости мою душу за то, что на краткий миг она была скована с ними обоими. Молись за нас!» Безумное бесконечное щелканье четок въедалось в мозг Генри. Наконец капитан, схватив шпагу и шляпу, выбежал из зала на улицу. Позади него, улыбаясь в косых лучах солнца, лежали сокровища.
Улицы вокруг губернаторского дворца пожар пощадит. Капитан Морган шел по мостовой, пока не оказался перед пепелищем. Камни почерневших стен раскатились поперек улицы. Дома, построенные из кедра, превратились в кучи дымящейся золы. Кое-где трупы убитых горожан скалились в небеса.
— К вечеру их лица почернеют, — подумал Генри. Надо распорядиться, чтобы их убрали, не то начнется мор.
Над сгоревшими кварталами все еще колыхались клубы дыма, наполняя воздух едким запахом паленого. Зеленые холмы по ту сторону равнины казались Генри несбыточным видением. Он долго смотрел на них, а потом оглянулся на город. Разрушение, которое ночью выглядело таким страшным, таким полным, в конце концов оказалось до жалости ничтожным и ограниченным. Генри почему — то не думал, что холмы останутся зелеными, целыми и невредимыми. Иными словами, завоевание Панамы, в сущности, большого значения не имело. Да, город лежит в развалинах. Он разрушил город, но женщина, которая приманила его к Золотой Чаше, ускользнула от него. Она спаслась, оставаясь в его власти. Генри содрогнулся от своего бессилия, и его пробрал холод при мысли, что об этом узнают другие.
Несколько флибустьеров рылись в золе, ища расплавившуюся драгоценную посуду, не разысканную накануне. Обогнув угол, Генри натолкнулся на Джонса, щуплого лондонца, и заметил, как тот поспешно сунул руку в карман. Пламя ярости забушевало в капитане Моргане. Кер-де-Гри сказал, что меж этим замухрышкой — эпилептиком и Генри Морганом нет никакой разницы?! Этот карлик — вор! Бешенство преобразилось в неистовое желание причинить боль щуплому человечку, ошпарить его позором, облить презрением, как был облит презрением Генри Морган. От жестокого желания губы капитана побелели и сжались в узкую линию.
— Что у тебя в кармане?
— Ничего, сэр… совсем ничего.
— Покажи, что у тебя в кармане! — Капитан навел на него тяжелый пистолет.
— Да ничего, сэр, только маленькое распятие. Я его нашел… — И он вытащил усаженный алмазами золотой крест с фигуркой Христа из слоновой кости. — Это для моей жены, — объяснил щуплый лондонец.
— А! Для твоей жены — испанки!
— Она наполовину негритянка, сэр.
— Ты знаешь, как наказывается сокрытие добычи?
Джонс посмотрел на пистолет, и его лицо посерело.
— Вы же не… Сэр, сэр, вы же не… — начал он придушенно. И тут его словно стиснули невидимые гигантские пальцы. Руки вытянулись, прижались к бокам, рот вяло приоткрылся, глаза потускнели, остекленели. Губы покрыла пена. Тело задергалось, как марионетка на ниточках.
Капитан Морган выстрелил.
На мгновение лондонец стал еще меньше. Его плечи ссутулились, почти заслоняя грудь, точно крылья — обрубки. Кулаки сжались, и бесформенный ком повалился на землю, сотрясаясь, как густой живой студень. Губы оттянулись, открыв зубы в последнем идиотическом оскале.
Генри Морган потыкал труп ногой, и что — то начало меняться в его сознании. Он убил этого человека. Его право — убивать, сжигать, грабить. И не потому, что он блюдет заповеди, и даже не потому, что он умен, а только потому, что у него сила. Генри Морган — владыка Панамы и всех, кто в ней. И нет в Панаме иной воли, кроме воли Генри Моргана. Он может перебить тут всех людей, если пожелает. Это так. Неопровержимая истина. Но там, во дворце, заперта женщина, которая презирает и его власть, и его волю. И это презрение оказалось более сильным оружием, чем его воля. Она наносила укол за уколом его смущению, где и когда хотела. Но как же так? — возразил он себе. В Панаме нет владыки, кроме него; в доказательство он только что убил человека. Под таранными ударами его доводов сила Исобель ослабела и медленно исчезла вовсе. Он сейчас же вернется во дворец и принудит ее, как обещал. С этой женщиной обходились слишком учтиво. Она не понимает, что такое — быть рабыней, и не знает, из какого железа скован Генри Морган.
Он повернулся на каблуках и зашагал назад к дворцу. Пистолеты он бросил в Приемном Зале, но серая шпага осталась висеть у него на боку.
Исобель стояла на коленях перед святым образом в тесной беленой каморке, когда туда ворвался Генри Морган. При виде его высохшая дуэнья забилась в угол, но Исобель внимательно посмотрела на его налившееся кровью лицо, на прищуренные свирепые глаза. Она услышала его тяжелое дыхание и с легкой улыбкой поднялась с пола. Язвительно усмехнувшись, она вытащила из корсажа длинную булавку и встала в позу фехтовальщика: выдвинула одну ногу, левую руку заложила для равновесия за спину, а булавку выставила перед собой, как рапиру.
— En gardel! — воскликнула она. И тут капитан набросился на нее. Его руки обхватили ее плечи, пальцы начали рвать одежду. Исобель стояла неподвижно, только рука с булавкой находилась в непрерывном движении и жалила, жалила, как стремительная белая змейка. На щеках и шее Генри выступили капли крови.