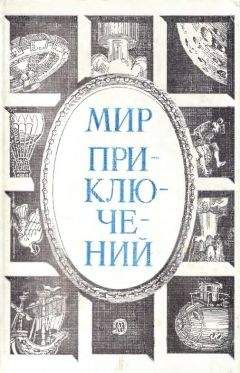Александр Кулешов - Голубые молнии
Лучшей иллюстрацией к этим словам служил сам командир взвода гвардии лейтенант Грачев.
Он действительно великолепно владел всеми «десантными», как он выражался, специальностями. Причем он так сумел поставите дело, что солдаты частенько приходили к своему командиру взвода и с вопросами, и с сомнениями, и с просьбой разрешить спор.
На следующий день Сосновский построил свой экипаж и торжественно заявил:
— Товарищи, ставлю задачу: добиться, чтоб никакой генерал не мог догадаться, кто у нас кто!
— Это как понять? — удивился Дойников, — Зачем нам генералов обманывать?
— Эх, Дойников! — Сосновский укоризненно посмотрел на него, — Какой обман! Речь идет о том, чтоб любой из нас одинаково хорошо владел специальностью и бойца, и водителя, и, между прочим, командира расчета.
— Понятно.
— Ну, раз Дойников понял, значит, действительно все просто, — заметил Щукин.
— Разговоры в строю! — нахмурился Сосновский.
В результате этой нехитрой затеи Щукин начал давать товарищам «дополнительные уроки» самбо, Ручьев наставлял всех в искусстве вождения машины, а Дойников пытался учить рисовать.
Но его инициатива поддержки не получила.
— Лучше ты помогай в топографии и маскировке, — утешал огорченного Дойникова Сосновский.
Как вскоре убедился Ручьев, боевая машина мало напоминала «Запорожца». Ему пришлось серьезно поработать, пока он почувствовал, что освоил ее.
Зато теперь он был одним из лучших водителей в роте. И на занятиях проявлял даже известную лихость, за что не раз получал замечания от Грачева.
— Вы что, Ручьев, — сердился командир взвода, — на автогонках, что ли! Вы на поле боя тоже будете выкрутасы проделывать? Имейте в виду, боевая машина не «альфа-ромео». На ней бьют врага, а не призы выигрывают. Учтите!
— Есть учесть! — громко отвечал Ручьев и на некоторое время сдерживал свой водительский пыл.
Вначале Ручьев относился к своей машине, как цирковая примадонна к своей лошади. Раскланявшись перед публикой по окончании номера и вкусив сладость аплодисментов, она удаляется к себе, предоставив конюхам дальнейшие заботы о коне. Показав класс на занятиях. Ручьев ставил машину в автопарк и больше не думал о ней.
Но однажды, осмотрев ее, лейтенант Грачев вызвал Ручьева и сказал:
— Не стыдно, Ручьев? Посмотри, посмотри! Да нет, фары ты протер и верх тоже. Подлезь под машину, вот-вот, не бойся. Ну как? Там же метровая грязь! Раскопки надо делать, топором ее откалывать. Машина небось на полтонны тяжелее стала. А внутри? Китель потом за день не отчистить. Какие-то тряпки, сиденье не закреплено. Ты дома-то со своим «Запорожцем» тоже так обращался? Тебя ведь первый автоинспектор остановил бы.
Сосновский организовал аврал. Машину выдраили так, что лейтенант Грачев заметил:
— Ну ладно, она все же не зеркало. Броню еще протрете...
С тех пор Ручьев тщательно следил и за внешним видом, а не только за техническим состоянием своей машины.
Вот и сейчас, обложившись тряпками и ветошью, он наводил порядок с помощью Щукина и Дойникова.
— Смирно! Товарищ гвардии старший лейтенант... Вольно!
К ним подошел командир роты. Некоторое время он придирчиво оглядывал машину и, не найдя, видимо, причин для замечаний, заговорил о другом.
— Гвардии рядовой Ручьев, послезавтра вы мне понадобитесь. Поедете со мной.
И пошел дальше проверять работу других экипажей.
— В чем дело? — забеспокоился Дойников, его голубые глаза округлились. — А? Куда это он тебя?
Ручьев пожал плечами, продолжая орудовать тряпкой. Он-то отлично знал куда.
Вот и наступил час решающего испытания!
Поедут к спортсменам на сбор, и там...
Остаток дня он был мрачен.
Сосновский, догадываясь о причине, пытался отвлечь Ручьева. Делился своими планами в отношении училища, выяснял что-то об английских глаголах, попросил вечером спеть любимую песню «Русское поле», принес только что прочитанную книгу и восхищался ею.
Ничего не помогло. Ручьев отвечал односложно, пел без души, а в глаголах запутался сам.
Мрачное настроение не покидало его и на следующий день, что не укрылось от внимательного взгляда замполита.
Вечером, возвращаясь домой, он заговорил об этом с Копыловым.
— Боится Ручьев.
— Боится? — Копылов даже остановился. — Ты говорил с ним?
— Да тут говорить нечего, и так видно.
— Думаешь, опять не прыгнет?
— Не в том дело, — пояснил Якубовский. — не самого прыжка он боится, а того, что не прыгнет. Понимаешь, раньше так, наверное, думал: ну, не прыгну, плохо, но не смертельно, все равно скоро переведусь в другое место, отчислят — и черт с ним. Теперь он врос уже, рота своей стала. Все ладится. А вот ведь чувствует себя белой вороной. Ему сейчас не прыгнуть — гибель! Самое страшное.
Некоторое время они шли молча.
— Интересно все-таки получается, — вслух размышлял Якубовский, — ведь пришел этот Ручьев, ну прямо белоручка. Я однажды видел, как Дойников учил его пол мыть. Тот пыхтит, сопит, трет поперек половиц, забрызгался весь. Дойников рукава засучил — раз-раз — у него здорово получается. Моет, ворчит: «Культурист... Пол культурно не можешь вымыть...»
Копылов улыбнулся.
— Все ему трудно давалось, — продолжал Якубовский, — и не потому, что неспособный. Нет! Он парень толковый, ловкий, а вот протест эдакий внутри сидит, как черт: «Не по мне, не для меня, я здесь ненадолго, перетерплю как-нибудь, лишь бы скорей перевестись или отслужить...» Ну, а при таком настроении ясно, все из рук валилось.
— Так ведь переменился, — заметил Копылов.
— Ну не совсем еще, но значительно. Прямо скажу — не узнать, И что главное, интерес появился. Он, как начались успехи, все по-другому воспринимать стал: «Ах, я первый, ну, смотрите, я еще не то могу!..» Честолюбивый парень. Только честолюбие у него не в ту сторону направлено. Теперь увидел, что и здесь можно первым быть, есть за что бороться, вот и старается. То-то и оно, — Якубовский щелкнул языком. — Потому для него прыжок сейчас — это все. Можно сказать, вопрос жизни.
— Да... — Копылов задумчиво покачал головой. — И небось чем больше думает об этом, тем трудней ему. А может, зря мы с Кравченко его бросать задумали? Может, надо было вместе с ребятами? Мы ведь как рассуждали: не прыгнет опять, никто не узнает. Следующий раз со всеми. А получается, если завтра не прыгнет, так в роте-то, может, и не узнают, но для самого него — драма. Больно много он об этом думает, готовится. Так?
— Так. Я с него глаз не спускаю. Переживает страшно.
— Да... Ну что теперь говорить! Завтра едем. Уж такую работу с ним провели. Теоретически он теперь парашют небось лучше любого инструктора знает. — Копылов усмехнулся. — Только и осталось, что прыгнуть. И потом... все-таки на Кравченко надеюсь. Просто не могу поверить, чтобы он при ней не решился...