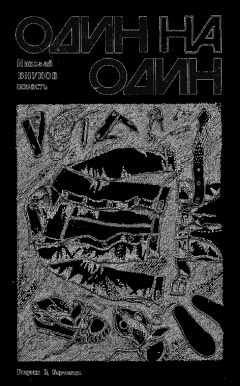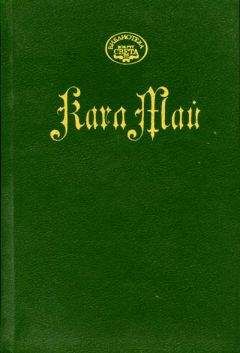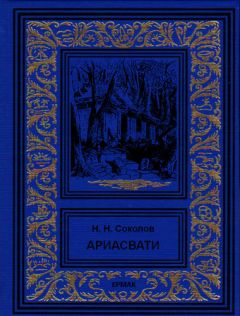Николай Внуков - Один
Я сам таким был.
Еще совсем недавно мне казалось, что наши учителя уже устарели, что они могут долбить только то, что вызубрили когда-то очень давно, и не понимают наших стремлений и нашей жизни.
А к чему мы стремились?
Любым способом добыть новый диск с записью «битлов» или «АББА» или выпросить у родителей новые джинсы, чтобы не отстать от других, выглядеть «как все». И это представлялось нам самым главным, без которого дальше жить нельзя.
Да на кой мне сдались эти ансамбли и джинсы в обтяжку, если они не прибавили мне ни крохи мозгов в голове? На кой я сидел ночами у проигрывателя, заслушиваясь песнями, в которых не понимал ни слова, в то время как настоящая жизнь, все действительно нужное проходило мимо меня, а я, как самодовольный осел, считал, что нахожусь на вершине!
Да разве все эти заграничные завывания модных певцов по радио, кривлянье самодеятельных ансамблей на экране телевизора так важны для жизни? А ведь есть такие, которые тратят все свое время на это.
Каким жалким, мелким, ненужным все это казалось сейчас!
И опять я вспомнил отца.
Я знал, что он окончил биологический факультет Ленинградского университета и уехал после этого на Дальний Восток, на морскую биологическую станцию в бухте Троицы. Изредка приезжал в Ленинград с какими-то отчетами и в один из приездов познакомился с мамой, которая тоже училась на биофаке. Они поженились, как только она закончила пятый курс. Больше о их жизни я ничего не знаю.
А потом родился я. Отец существовал где-то очень далеко, и мама и бабушка, разговаривая о нем, всегда добавляли: «Скорее бы Володя приехал». Так он и остался в моем детском сознании уехавшим, который должен скоро приехать.
Помнить себя я начал лет с четырех.
Самое первое мое воспоминание — заводной пластмассовый самолетик, который мне купил приехавший наконец отец. Нужно было крутить в корпусе самолета маленькую проволочную ручку, придерживая в то же время колеса ладонью. Потом самолет ставился на пол, ладонь быстро убиралась, и пластмассовая стрекоза очень резво бежала по комнате, пока не наталкивалась на ножку стола или на стену. Тогда она беспомощно валилась на одно крыло, а колесики стремительно продолжали крутиться, пока не кончался завод пружины. Я любил этот самолетик больше всего на свете — ведь это была игрушка отца! На ночь я ставил его под кровать и, проснувшись утром, первым делом проверял, на месте ли он. А отец тем временем на настоящем самолете делал свой очередной прыжок через страну. Я всегда удивлялся, какая у него борода, какие сильные руки, какой громкий и бодрый голос. Я очень любил его. Налеты его на Ленинград превращались для нашей семьи в маленькие праздники. Но, даже став большим, учась в школе в пятом, потом в шестом классе, я так и не знал, какой работой он занят, что за отчеты он пишет по вечерам в свете настольной лампы на гибкой пружинной ножке.
О маме я знал еще меньше. Она была замечательной пловчихой, у нас дома на шкафу стояло три блестящих кубка, на которых красивой гравировкой было написано, что они присуждены Черняк Валентине Георгиевне за первое и два вторых места по подводному ориентированию и плаванию на дистанцию с аквалангом. Она и меня начала учить плавать, когда я еще совершенно ничего не соображал. А когда я стал помнить себя, плавание для меня было уже такой же обычной штукой, как еда, сон и ежедневные занятия в школе. В Ленинграде она работала в каком-то научно-исследовательском институте, на станции была младшим научным сотрудником, но, в чем заключалась ее работа, я тоже не имел ни малейшего представления.
Как жалел я сейчас об этом!
Ну что было как-нибудь вечером подойти, спросить, поинтересоваться! Так нет же, дурак, сидел в своей комнате, занятый какими-то «важными» своими делами, и не видел ничего дальше собственного носа!
А ведь сколько интересного они могли рассказать)
Кем я хотел стать в будущем?
Я не задумывался об этом. Мне казалось, что все получится само собой, стану постарше, увлекусь каким-нибудь делом и сделаю это дело своей специальностью. Правда, увлекался я многим — и музыкой, и футболом, и литературой, и физикой — и каждый раз считал: вот оно, главное, чему я отдам всю свою жизнь! Но проходило какое-то время, увлечение мало-помалу испарялось, меня тянуло к чему-то новому, и снова я считал: вот оно! И только сейчас, на острове, я понял, что эти жалкие увлечения были сплошной ерундой. Жалкие потому, что они длились очень недолго. Ничем, оказывается, я и не увлекался. Просто нравилось то, другое, третье. А настоящего, которое захватило бы меня без остатка, так и не было.
Сейчас, задумываясь иногда о своем будущем, я видел море и корабли.
Море и корабли…
Если, конечно, останусь жив.
* * *Каменных плиток я натаскал к источнику столько, что из них можно было построить еще две стены. Тут же, прижатый камнями, лежал огромный ворох полиэтиленовой пленки. Доски ожидали момента, когда я пущу их на кровлю.
Еще два дня я потратил на то, чтобы поднять стены до высоты своего роста. Получалась довольно симпатичная будка, в которой можно даже сложить камин. Я уже задумывался над полом: зимой на Охотском море стоят такие холода, что на голой земле не поспишь. Надо обязательно пол из досок. Но на берегу ничего не находилось. Стояла на редкость тихая погода, хотя вода в море становилась все холоднее.
Меня очень тревожил костюм. Как я ни берег его, он расползался с каждым днем все больше и больше. Куртка прорвалась на локтях и под мышками, на брюках дыры светились между ног, под коленями и на коленях. Почему я никогда не носил с собою иголку и хотя бы немного ниток? Ничего не стоило воткнуть ее в клапан кармана и обмотать нитками. Да ничего, если бы ниток и вовсе не было, — их легко можно было сделать из капроновых шнуров. Вот иголку уж ни из чего не сделаешь… Что ж, когда брюки разорвутся совсем, придется обмотать ноги полосами материи от японского матраца. Больше нет никакого выхода.
И все больше и больше давала чувствовать себя слабость. Когда я просыпался утром, все было в норме, мне казалось, что я бодр и полон сил, как дома. Но стоило опустить ноги с кровати на пол, как голова начинала тоненько звенеть и хотелось снова прилечь и подремать несколько минут. Я понимал, что нельзя давать себе послабления. Достаточно раскиснуть хотя бы на день, сказать: «Ладно, это можно сделать не сегодня, а завтра» — и все пойдет вкось. Потом захочется с завтра перенести дело на послезавтра, потом найдешь еще какую-нибудь причину — и конец.
Впрочем, мне не приходилось переносить свои дела. Подхлестывали голод и погода. Кончался июль. А в августе, как я знал, в этих широтах начинались дожди. А потом медленно, но упорно набирали силу холода. Если я не успею сложить к этому времени дом, то останусь голым на голом берегу. И то не надолго…