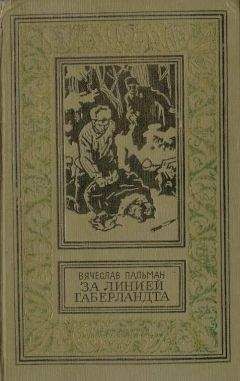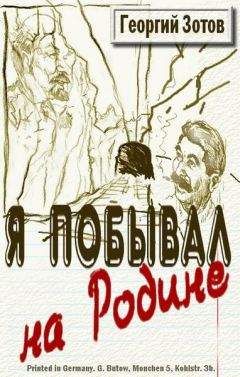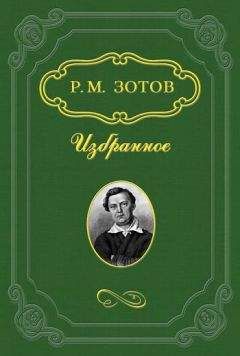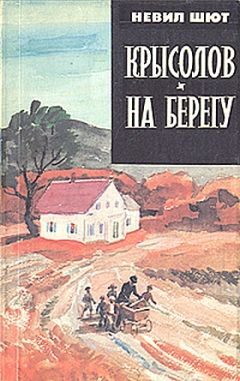Виктор Дудко - Тревожное лето
Сибаяма заулыбался:
— Господин главком, я уполномочен передать от имени командующего японским экспедиционным корпусом генерала Тачибаны, что наши войска будут выведены из Владивостока 25 октября до шестнадцати ноль-ноль.
Они раскланялись, и Покус проводил Сибаяму к автомобилю.
В плохо освещенной комнате стоял густой запах горелой бумаги, дверца печной топки распахнута. Дзасохов, кашляя, остервенело пихал в огонь охапки бумаг. Дым ел ему глаза, по лицу метались розовые блики пламени, сверкали на новенькой звездочке на погонах.
...Вчера, перед самым отходом, Дитерихс, вспомнив, отдал указ о присвоении очередного звания полковнику Бордухарову. Торопливо сунул ему полевые генеральские погоны без позолоты, потянулся с объятиями, так что высокому полковнику пришлось согнуться. «Поздравляю. Это все, что я еще мог сделать для вас, голубчик. И, ради бога, — бормотал он невнятно, — не вините меня. Господь все видит, все... — Он указал куда-то вверх пальцем: — Все видит...» — Глаза правителя были красными, и Бордухарову показалось, что его превосходительство немного не в себе.
Выскочив от Дитерихса, он хотел было бросить погоны в урну, но передумал. Засунул их в карман: «На память... А может, чего доброго, пригодятся еще». Усмехнулся ядовито самому себе и так, с застывшей, ничего доброго не предвещающей гримасой, вернулся на Полтавскую.
В свою очередь Бордухаров сунул Дзасохову пару звездочек (погонов не нашел, да и времени на это не было).
— А с Кавкайкиным вы уж сами смотрите там. — Он торопился. — Идите, голубчик, — непроизвольно повторил он слова Дитерихса, видя, что Дзасохов стоит, понуро опустив голову, сжимая звездочки в кулаке. — Вы что, голубчик? Идите, идите с богом...
Привели Серегина. Был он в расстегнутой шинели, без ремня, весь какой-то мятый, с отросшей за ночь щетиной. Его арестовали вчера, но всю ночь он пробыл в камере один: Дзасохов допрашивал Халахарина и Кавкайкина.
— Что это значит, Игорь? — спросил Серегин, остановившись у двери.
Дзасохов продолжал заталкивать в печь очередной ворох бумаг.
— Ты что, оглох?
Дзасохов покосился на него, но не двинулся с места. Нехотя, с хрипотцой произнес:
— Следы заметаем, не видишь, что ли?
— Я не о том.
— Драться будем? — негромко спросил Дзасохов, нехотя подымаясь. — Так ты против меня не устоишь. Больно жидок. — Прозвучало это со скрытой угрозой. — Подошел вплотную к Серегину, воткнув в него немигающий бешеный взгляд. — Ну, что тебе не ясно?
Серегин, накаляясь, с трудом сдержал нахлынувшее раздражение. Бессонная ночь давала себя знать, нервы были на пределе.
— Ты чего на всех бросаешься?
— А ты не сообразил?
— Но при чем тут я?
— Все при чем. И с тобой надо было разобраться. Дожили, не знаешь, где свой, где чужой...
— Свой — чужой... Слова. А словам ты и сам не веришь.
— Тогда переходим к фактам. — Дзасохов прикрыл топку, отряхнулся. — Холл узнал о переговорах на «Меркурии» вечером в «Медвежьей берлоге». Вы там вместе пили.
— А, вон что! — Серегин устроился в кресле, вытянул ноги в потерявших лоск сапогах.
— Что, ни сном, ни духом?
— Ты говорил: факты...
— Сначала несколько вопросов. Вы весь вечер были вместе?
— Вот и спроси у Холла. Кстати, ты тоже мог быть с нами.
— Но не был. Был ты.
— Не я один.
— Остальные сказали все, что знали.
— Кто? Халахарин?
— И Халахарин.
— И Кавкайкин?
— И Кавкайкин.
— Думаю, мне добавлять нечего.
Дзасохов засмеялся закрытым ртом:
— Холл показал обратное.
— Бедный Холл. Наверное, его здорово били.
— Не паясничай, — Дзасохов ногой приоткрыл печь, присел.
— И все-таки, где факты?
— А факты таковы: как показал Холл, некая секретная информация получена им от тебя. Вот фотография. — Дзасохов бросил на стол снимок, который показывал американскому корреспонденту вежливый китаец.
Снято словно бы из-за угла, при плохом освещении. «Ну, мой портрет. Ну и что?»
Серегин повертел фото:
— И где тут обозначено, что это момент выдачи тайн? Просто твой приятель Олег Серегин, пьяный до положения риз.
Дзасохов скривился, пытаясь улыбнуться:
— Странно... Никогда не видел тебя пьяным.
— Ну и что дальше?
— А вот что. Ни у кого из бывших в «Берлоге» нет ни гроша. Кроме одного... У тебя с недавних пор в Харбинском банке появился капитал. Откуда это?
— Ну что, ты и вправду все знаешь!
Дзасохов самодовольно хмыкнул.
— В чем сознался наш юный друг? — настаивал Серегин.
— Во всем. Тайну продавали трое, а деньги одному. Так?
— Деньги правят миром, дорогой!
Дзасохов поморщился, погремел коробком, чиркнул спичкой. Она нехотя, бледно загорелась.
— Вот тут вы у меня, — он стиснул кулак и подержал его перед собой, — ваши шашни с американцами. Все хватают, гады, пока ты тут в крови пачкаешься. Все продали... Россию с молотка пустили, царя, мундир, лишь бы себе в карман. Свои так не делают.
— Подожди, ну в чем ты меня обвиняешь? Что не поделился с тобой, да? — морщась, спросил Серегин.
Дзасохов, не слушая его, продолжал:
— Кто помог тебе, когда ты появился здесь без штанов? Дядя? Я! — ткнул себя в грудь. — Устроил, пригрел. А теперь морду воротишь? А не задумался ни разу, почему тебе никто еще даже в морду не дал, не то чтобы допросить по всем правилам?
Этот поворот Серегина устраивал. Деньги и только они интересуют Дзасохова. Сейчас все, кроме денег, для него прах, тлен. И Россия, и царь, и мундир. Деньги — это жизнь, благополучие там, за морями-океанами. На остальное наплевать.
— ...не считай меня за дурака...
— Ты умный, — сказал Серегин, — это я дурак. Ладно, — согласился он. — Ловко ты меня... Государственная тайна, дорогой Игорь Николаевич, стоит многих денег. Если я тебя правильно понял, нас было трое. Сейчас будет четверо. Не многовато ли?
— Двое, — категорически поправил Дзасохов. — Двое, — повторил он. — С Халахариным мы, кажется, перестарались. Кавкайкин не в счет. Я ведь знаю, американцы неплохо платят, — заулыбался он.
— Значит, двое. Ну что ж... Пусть так.
— Вернешься в камеру, приведешь себя в порядок. Я буду ждать. Амуницию тебе туда принесут.
В камере уже сидел Кавкайкин. Он бросился к Серегину. Разбитые губы его кровоточили, и весь он походил на дворняжку, которую только что палкой учили быть злой.
— Он меня бил... За что?
Серегин торопливо надевал принесенную конвойным портупею, потом поискал фуражку, стряхнул с нее пыль.
— За что? — переспросил. — За то, что болтал лишнее.
Кавкайкин заплакал. Серегину нисколько не было жаль его.
Небо висело низкое и сырое, начинал моросить мелкий дождь. Во Владивосток со стороны Первой Речки колоннами входили войска Народно-революционной армии и партизаны. Красными флагами, ликованием и песнями встречал их город. Бойцов в буденовках и партизан с красными лентами на шапках забрасывали цветами, обнимала, расстраивая ряды. Многих из бойцов покидала выдержка: выбегали из колонн, к ним кидались родные и друзья.