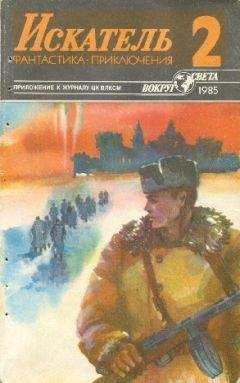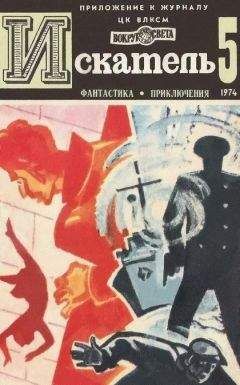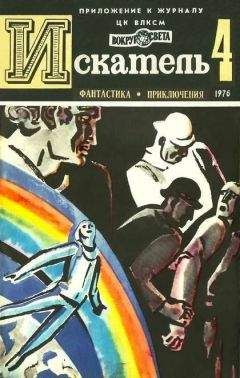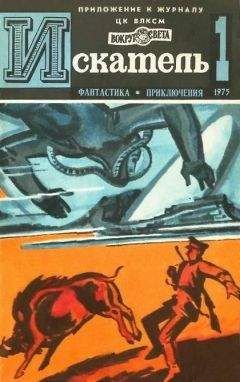Владимир Рыбин - Искатель. 1975. Выпуск №6
— Э-э! — весело отозвался Маричев. — Отлились волку овечьи слезы! Я ведь потом к партизанам попал. Ну да это все другой сказ. А уж раз вы про Тельмана интересуетесь, так я доскажу. Сидим мы в церкви, кукуем. Мне даже страшно стало. А тут еще и поп с нами. Немцы и его заперли. Отца Никифора. Зажег он лампаду перед иконами, стал на колени, молится. На иконах святые будто живые. Глядят со всех сторон. Огонек у лампадки мечется. Да еще ветер на улице поднялся. И слышно, как на колокольне колокола позванивают. А отец Никифор антихриста на все корки разносит. Жуть. Тут один из мужиков ему говорит: «Ты бы, батя, не рвал душу, кончил бы причитать».
Поп и вправду молиться перестал, подошел к Телю, голову ему потрогал: «Крепись, — говорит, — свистулька. — Принес откуда-то мокрую тряпку, положил ему на фингал, сел рядом. — Каяться, — спрашивает, — будешь?» Тель брыкается. А отец Никифор все пристает с покаянием. «Яблочки с церковного сада таскал? Покаялся бы. — И смеется. — Хороши яблочки? Ничего, свистулька. Не переживай. Сказано в священном писании: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы».
Вот ведь как наш поп сказанул тогда. Я до сих пор помню! Наверное, придумал. По ходу дела, — усмехнулся Маричев. — Не может быть, чтобы в священном писании так сказано было. Правда ведь?
— Не знаю, — ответил Игорь Васильевич. — Мне такого не попадалось.
Они закурили, посидели, помолчали. Потом Алексей продолжил:
— Отец Никифор Телю сказал: «Как, — говорит, — я твоего отца отговаривал, чтоб не называл тебя Тельманом. Нету такого имени в святцах! Настоял, упрямый козел. И согрешил я — записал тебя Тельманом. Мне потом отец благочинный выволочку делал. Да я и сам хотел уйти. «Пишша плохая, лапти сносились — давай рашшот!» — пропел он дурашливо. Все рассмеялись, и Тель улыбнулся. Понял, что шутит поп.
А отец Никифор говорит: «Тут среди нас, приметил я, чужих двое. Думаю, что переодетые. Завтра фрицы уже не по волосам проверять будут. Дознают, кто вы такие. Не зря же вы переодевались. Надо бы вам тикать отсюда. Да и мальца с собой прихватить. Не ровен час…»
Все молчат. Потом тот мужик, что молиться попу не дал, говорит зло: «Ты что ж, смеешься, что ли? Как из твоей церквухи выберешься? Ровно тюрьма. Сам-то небось тоже сидишь!»
«Раз господу угодно, чтобы вас от пули спасти, найдет он путь праведный, — проворчал отец Никифор. — Церковь эта со словцом поставлена».
Подошел он к мужику, пошептались они о чем-то. Потом еще с одним мужичком пошептались. Прихватили Теля и ушли куда-то за иконостас. Через маленькую дверцу. А поп вернулся. Хотел и я с ними рвануть, да не взяли. «Сиди, — говорят, — тебе бояться нечего». Ну вот и вся история.
— Алексей Павлович, не угостите ли чайком? — попросил Корнилов. — Вы никуда не торопитесь?
— Не, у меня отгулы за прогулы. Выходной я. Сей момент чайку сварганим.
Он ушел на кухню и опять загремел там кастрюлями. А Игорь Васильевич сидел и думал о том, что услышал от Маричева.
Алексей принес две чашки с блюдцами и варенья в маленькой эмалированной мисочке. Сказал гордо:
— Черноплодка с яблоками. Хозяйкина гордость.
Корнилов посмотрел на часы и спохватился — он сидел у Маричева уже около трех часов и даже не заметил, как стемнело на улице.
— Алексей Павлович, — сказал он. — Еще несколько вопросов, да бежать надо. Время подгоняет. А что ж Зотов-то? Отец? Ему немцы ничего не сделали?
— Сделали. Двое суток мутузили. И мне отлуп поутрянке дали. За дружбу, наверное.
— А потом?
— Потом?.. — рассеянно отозвался Маричев. — Потом, когда фрицы отступали, они полдеревни за собой угнали. И дядю Колю. Он, пожалуй, самый последний и вернулся. В конце сорок шестого. Все так и считали его погибшим. Кто-то из зайцевских его в Германии чуть ли не при смерти видал.
— Алексей Павлович, а с сыном Зотов не встречался?
— Нет. Когда Тель в Зайцево после войны приезжал, ничего не известно было об отце. Все считали, что погиб в Германии дядя Коля. Тельман и уехал. Да и жить было негде. Дом-то сгорел…
— А если бы Тельман с ним встретился?
— Ну и что? — удивился Алексей.
— Не мог он ему грозить? Ударить, например?
— Кто? Тельман? Ну что вы! — отмахнулся Маричев. — Простить, может, и не простил бы, но чтоб руку поднять?! Нет! — И, чуть подумав, добавил: — Да, наверное, и простил бы… Я бы простил. Отец все-таки.
— А почему Тельман потом отца не разыскал?
— Откуда я знаю? Наверное, думал, что погиб. А может, уже и разыскал?
— Ну а Зотов?
— А он-то что? Не-е-ет. Когда со мной говорил, плакал. «Нет, — говорит, — мне прощения». Еще бы. А почему вы все про это спрашиваете?
— Да потому, что Тельмана нашли убитым недалеко от того места, где жил старик.
Леха вскочил, бледнея:
— Тельмана убили? Какая же падла?
«Нет, не буду говорить, что отец. Всей правды ведь не объяснить», — подумал Корнилов.
Когда он приехал в лужскую прокуратуру, чтобы рассказать о своим сомнениях следователю, то застал Каликова в растерянности. Прокурор возвратил дело на доследование…
«Молодец, — обрадовался Игорь Васильевич, — перепроверить «вариант с рыжими шапками»…»
20
С тревожным чувством отправился на следующий день Корнилов в дирекцию лесхоза, чтобы повидать бухгалтера Мокригина. Игорь Васильевич уже не сомневался в том, что именно он шел вслед за художником в день убийства. Дежурный на станции Мшинской опознал по одной из предъявленных ему следователем фотографий человека, приехавшего пятнадцатичасовой электричкой. Этим человеком был Григорий Мокригин. Но нет, не признается бухгалтер, что ездил на Мшинскую. Не захочет отвечать на опасный вопрос, почему убежал из леса, оставив на произвол судьбы истекающего кровью художник! Ведь не обмолвился ни словом об этом, когда беседовал с работниками уголовного розыска, узнавшими о его дружбе с лесником!
Но, несмотря на все свои сомнения, Игорь Васильевич шел в леспромхоз и надеялся на успех. Корнилов специально не стал приглашать Мокригина в райотдел — ему хотелось застать бухгалтера врасплох, неподготовленным. Поставленный перед необходимостью отвечать сразу же, немедленно, он может допустить промах, неточность, может растеряться.
«Почему Мокригин не пошел за помощью в деревню? — думал Корнилов. — Испугался, что могут и его убить? Вздор! Тогда бы он прибежал хоть в милицию. Побоялся, что могут заподозрить в убийстве самого? Нет, честный человек сначала окажет помощь раненому, а уж потом подумает о себе. Честный человек… Но ведь бухгалтер в прошлом уголовник. Мог подумать: «Первое подозрение — на меня. Попробуй потом отмойся». И повернул домой, даже к дружку своему не пошел в тот день. А почему же не был потом? Почему не пришел на похороны лесника? Они же были друзьями. Об этом и в лесхозе знают, и во Владычкине. Что-то за всем этим кроется более серьезное… Знал ли Мокригин, кто идет вместе с ним по лесной тропе? Нет, скорее всего не знал. Ведь лесник не встречался с сыном тридцать лет… — И вдруг Корнилова обожгла внезапная мысль: — А что, если пуля предназначалась бухгалтеру? — Игорь Васильевич вспомнил, что рассказывала ему во Владычкине старуха Кашина о приятеле Зотова: «Собою фигуристый, меховая рыжая шапка…» И первое, что он тогда сделал, — попросил проверить, не стряслось ли чего с Мокригиным — ведь убитый был широкоплеч, строен, и шапка на нем была рыжая, лохматая… Дирекция размещалась недалеко от вокзала, в старом, видать, купеческом, доме. Корнилов вошел. В коридоре, стены которого были густо заклеены объявлениями, приказами, сводками, курили двое мужчин. У обоих поверх пиджаков были надеты меховые безрукавки.