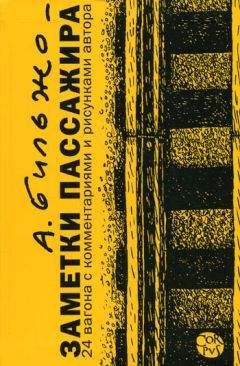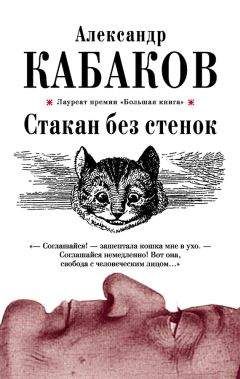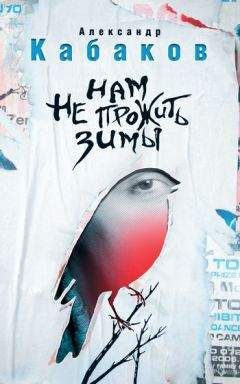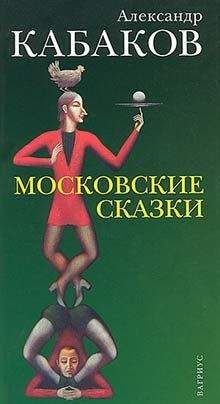Сергей Давыдов - Путаный след
Повелас пробовал было лечить коня, но, опасаясь, что заразит его последнего жеребенка, пригнал Фрица в подсобное хозяйство. Здесь его поместили отдельно, лечили, но чесотка была запущена, и ветеринар приказал гнать его в институт.
Хозяйственный Лысюк не мог допустить, чтобы лошадь шла в город налегке, и самолично наложил на сани чуть ли не полстога сена. Сено он наложил плотно, так что и не понадобилось перехватывать веревкой, но Лысюк всё же перекинул веревку один раз. Потом обошёл воз кругом, полюбовался, налег плечом — сено не шелохнулось.
— Ось як у нас!
Так же не мог хозяйственный Лысюк допустить, чтобы с сеном поехал кто-нибудь из дельных людей, и послал меня. Заодно спровадил он и Борьку, у которого по всем признакам не сегодня-завтра должен был начаться флюс.
— Между прочим, — сказал нам старшина на прощанье, — двоих тут в штрафную отправили, сено на горилку вздумали поменять!
Выехали на шоссе и по ровной укатанной обочине Фриц увеличил шаг. Сытый и застоявшийся, он бежал жадно и просил меня взмахами головы еще отпустить вожжи.
— Приедем, спрошу врачей: для чего их держат, если они флюс не могут вылечить?!
Засунув палец в рот, Борька щупал десну.
— Прошу же: выдерните, так нет, надо снимок делать, а снимок не делают!
Я знал это все наизусть. Снимок не делают, потому что нет оборудования, зубы не рвут, потому что не проходит воспаление, воспаление не проходит потому, что что-то с надкостницей…
Шоссе шло от Каунаса в сторону фронта, оно не пострадало, не было на нем наспех заделанных воронок, за кюветом метрах в сорока тянулись аккуратные ряды щитов. Только изредка торчали в кюветах, высовывались из снега лошадиные копыта.
Навстречу нам ползли танки, проносились машины с подпрыгивающими на прицепе орудиями, натужно рыча, двигались бензовозы. От грохота и густого запаха бензина я быстро осоловел: сказалась контузия — и, отдав вожжи Горожанину, лег и забился носом в отдающее прелью сено.
— Тоска, — разговаривал сам с собой Борька. — Ты болен, я болен, Фриц болен. Вояки! Слышь, Петро, неужели ты на войну сам пошёл?
— Сам, — отозвался я, не поднимая головы. Меня знобило.
— Твой год, детка, наверно, после войны призывать будут, а ты уже раненый-контуженый! Ну зачем ты пошёл, думал, здесь игрушки?!
У меня не было сил вести разговоры:
— Думал — игрушки, отвяжись!
Тошнота стала подкатываться к горлу волной, я старался хватать воздух ртом. Холодный пот обдавал тело; расстегнув шинель и натянув ее на голову, я пытался согреться.
Борька продолжал ругать войну, но я знал, что слова у него не свои, что он только и думает, как бы отделаться от флюса и попасть на фронт. Так войну ругают люди, уставшие от неё, покантовавшиеся в госпиталях, стреляные, рубленые, обугленные…
Ещё год назад я плакал в кабинете ярославского военкома, не упрашивая, а умоляя послать меня на войну. Еще четыре месяца назад, окончив курсы, я писал отцу на Первый Украинский: «Папа, поздравь меня — я стал минером!..»
Хорошо, что Лида уговорила не отсылать письмо.
Контузило меня, а могло и убить, случайно. Мина — небольшой деревянный ящичек, способный уместиться на моей ладони, — была спрятана в мокрой осенней траве. Такие деревянные штуки ставили при отступлении наши саперы. Я обрезал проволоку и потащил мину к себе. Круглая, похожая на туалетное мыло шашка тола вдруг выскочила из ящика на траву, я успел заметить, что она привязана ещё одной проволочкой…
В госпитале лежал один минер, он объяснил, что такая мина обычно отрывает обе ноги и мне, значит, повезло.
«Почему я должен был погибнуть на своей мине? — думалось мне в госпитале. — Я ведь пошел на войну, чтобы совершить что-то необычное».
Потом я увидел, что в госпиталь попадает немало народу, вроде меня, раненных случайно, контуженных случайно. Минер как-то рассказал мне о товарище, погибшем случайно. И тогда война стала мне казаться зорким зверем, убивающим всюду — не только на фронте, но и в тылу. Стоит чуть ослабить внимание, забыться, зверь раскрывает пасть и…
Я, видимо, заснул, пригревшись под шинелью, потому что очнулся от какого-то крика и понял, что сани стоят.
Низенький молодой майор тыкал пистолетом в нашего Фрица и орал на вытянувшегося перед ним Борьку:
— Конюхи тыловые! Под суд! Такую заразу на шоссе!
Длинный обоз проходил в эту минуту мимо нас, и я сразу понял, почему кричит майор, — чесотка передается лошадям по воздуху, Лысюк об этом не подумал.
— Я покажу вам кузькину мать! Под суд, — еще раз крикнул майор и сунул пистолет в ухо Фрицу.
— Товарищ майор, — крикнул я что есть сил и скатился вниз. — Я это, я виноват!
— Ты! — лицо майора гневно дернулось, но пистолет он все же опустил. — Ага, я покажу кузькину! Сержант, значит. Под трибунал пойдешь! Айда в мои сани.
Он взял меня за руку, как бы опасаясь, что я могу сбежать.
— А ты, — обратился он к Борьке, — заворачивай туда, — он показал в сторону щитов, задерживающих снег. — Там можешь ехать. Ну, давай через кювет!
Майор толкнул меня к саням, я поскользнулся и опустился на шоссе.
— Что с ним? — крикнул майор. — Пьяный?
— Болеет, — сказал Борька. — А вообще-то он Герой Советского Союза.
— Врёт, — я поднялся и прислонился к сену. — Из госпиталя я, товарищ майор, контузия.
— Что же вы молчали, — он спрятал ТТ. — Но всё равно, давайте туда, через кювет. Здесь вас снова остановят.
Обоз кончился, майор давно уехал, а мы все топтались на месте.
— Надо ехать к щитам, — решился наконец Борька. Спрыгнув в кювет, он попробовал снег ногой. — Можно проскочить.
Он сбегал к щитам, вернулся, взял вожжи.
— Колея там есть. Плохая, правда. Но как-нибудь доедем. Н-но!
Фриц осторожно опустил передние ноги в кювет, замер, как бы соображая, как лучше преодолеть препятствие, и тут Борька для чего-то хлестнул его концом вожжей. Фриц рванулся, прыгнул, сани пролетели по воздуху.
— Тпру, — теряя вожжи, закричал Борька, но Фриц остановился только возле щитов.
Он остановился резко, как вкопанный, и на наших глазах сено покачнулось и вдруг все расползлось…
Два часа прошло после встречи с майором, а мы не сделали и шага вперед. Вил у нас не было. Обращаться с сеном мы не умели, скинув шинели, мы кидали его на сани охапками, уминали, стягивали веревкой, но стоило саням тронуться с места, как сено мягко опускалось на снег. Все начиналось снова.
Борька чувствовал себя виноватым и советовал мне отдохнуть, но головокружение у меня прошло, я работал с азартом.