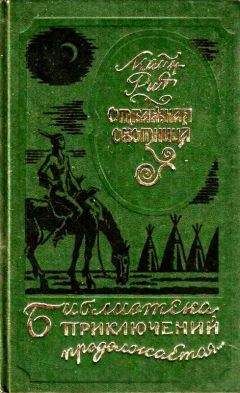Томас Майн Рид - Вольные стрелки
После ужина дон Косме вышел распорядиться насчет завтрашнего отъезда. Супруга его ушла приготовить нам комнату для ночлега, и мы с Клейли на некоторое время остались в прелестном обществе Люпе и Люс.
Обе они были превосходные музыкантши и одинаково хорошо играли на арфе и гитаре. Много испанских мелодий услыхали мы с другом в тот вечер. Не мудрено, что нас охватили соответствующие мысли и чувства. Но как разнообразны человеческие сердца в любви! Веселый, открытый характер моего товарища сразу нашел себе отклик. Его собеседница то смеялась, то болтала, то пела вместе с ним. Увлекшись веселой беседой, эта легкомысленная девушка совсем забыла про брата, хотя через секунду она могла бы расплакаться о нем. В ней билось нежное сердце – сердце легких радостей и легких печалей, сердце вечно сменяющихся чувств, приходящих и уходящих, как прозрачные тени облаков пробегают над залитой солнцем рекой…
Не таков был наш разговор с Люпе – он был более серьезен. Мы не смеялись: смех оскорбил бы охватившее нас чувство. В любви нет веселья. В ней есть радость, наслаждение, счастье, но смех не находит отклика в любящем сердце. Любовь есть чувство беспокойства, чувство ожидания. Арфа отложена в сторону, гитара лежит неподвижно: мы слушаем более сладкую музыку – музыку струн сердца. Разве взоры наши не прикованы друг к другу? Разве наши души не общаются в безмолвии? Да, они общаются без языка, по крайней мере без языка слов, ибо говорим мы не о любви. Нарсиссо, Нарсиссо! Мы говорим о брате девушки. Опасности, которые он переживает, омрачают нашу радость…
– О, если бы он был здесь! Как мы бы были счастливы!
– Он вернется! Не беспокойтесь, не огорчайтесь. Завтра ваш отец без труда найдет его. Я сделаю все, что можно, чтобы вернуть его сестрам!
– Благодарю вас, благодарю вас! О, мы и без того так бесконечно обязаны вам!
Чем сияют эти глаза? Любовью ли? Благодарностью ли? Тем ли и другим вместе? Нет, одна благодарность не может говорить так выразительно. О, зачем эта минута не может продлиться вечно?!
– Спокойной ночи, спокойной ночи!
– Senores, paean usted buena hoche!
– Senores, paean usted buena hoche! (Сеньоры, спите спокойно!) Они ушли.
Нас проводили по комнатам. Солдаты привязали коней под оливами и расположились на ночлег в бамбуковом ранчо. Только одинокий часовой всю ночь ходил вокруг гасиенды…
Глава XXV. ДУШНАЯ НОЧЬ
Я вошел в свою комнату. Смогу ли я уснуть? Едва ли. Передо мной было ложе, убранное дамасскими тканями. Я раздвинул занавес – белоснежные подушки словно ожидали прикосновения щеки прекрасной новобрачной. Ведь я не спал целых два месяца в настоящей постели. Тесный ящик в каюте торгового судна, гамак, открытый паукам и скорпионам Лобосак, одно-единственное одеяло в песчаных холмах, где я часто просыпался полупогребенный песками.
Таковы были мои воспоминания, но совсем иные перспективы радовали меня. Обстановка располагала к отдыху; и все же мне казалось, что я не засну. Невольно перебирал я в памяти происшествия истекшего дня. Нервы были напряжены. Мысли неслись молниеносно, одна за другой…
Сердце билось тревожно – были затронуты долго молчавшие струны: я любил!..
То было не первое увлечение в моей жизни, и мне скоро стала ясной причина моего необычного состояния: ад ревности начинает проникать в мои жилы!.. «Дон Сант-Яго», – произнес я уже ненавистное мне имя…
Я подошел к большому зеркалу; по обеим его сторонам висели на стене миниатюры.
Я наклонился, чтобы рассмотреть правую из них. С волнением узнал я ее черты. «Однако художник не польстил ей, – подумал я, – такой она будет лет через десять. Но сходство все же есть. Что за нелепый художник!..»
Я обратился к другой миниатюре. «Вероятно, ее сестра? Милосердное небо! Неужели мои глаза не обманывают меня? Нет, я узнаю эти черные вьющиеся волосы, дуги бровей, сжатые губы – Дюброск!..»
Острая боль пронзила мое сердце. Пристально, все еще недоверчиво рассматривал я портрет. И предположения перешли в уверенность. «Ошибки быть не может: это его черты!» Словно парализованный, упал я в кресло…
Что это значит? Неужели я повсюду, всегда буду встречать это лицо? Неужели это мой злой гений, созданный единственно для того, чтобы преследовать меня?..
Мне припомнились все наши встречи, начиная с первой в Новом Орлеане…
Я встал, схватил лампу и снова подошел к портрету… О, да, я не ошибаюсь: там – она, а здесь – он! И они висят рядом!.. Других портретов нет в этой комнате… Что же это? Может быть, они жених и невеста? Его зовут дон Эмилио… Тот женский голос на острове Лобосе называл его Эмилем… А она сегодня говорила об американце доне Эмилио, который учил ее и сестру английскому языку… Да, дон Эмилио и Дюброск несомненно одно и то же лицо… И он попал сюда раньше меня, он – этот красавец с демоническим характером. Это ужасно, невыносимо!..
Я снова поставил лампу на стол и бросился в кресло…
Где-то пробили часы…
За боем последовали тихие, приятные звуки. Серебристо-нежные звуки переливались стройными аккордами, успокаивая мои возбужденные нервы.
Я торопливо разделся и лег…
Я твердо решил не думать больше о ней, забыть ее – забыть во что бы то ни стало.
«Встану как можно раньше, – говорил я себе, – и отправлюсь в лагерь, ни с кем не прощаясь… Когда я снова буду в своей палатке, обязанности солдата изгладят из моей памяти встречу с… невестою Дюброска. Барабан и флейта, грохот пушек и треск ружейных выстрелов заглушат голос сердца…
Я старался направить мысли на что-нибудь другое. Напрасные усилия!
Наконец я все-таки заснул, заснул крепко, без снов…
Глава XXVI. СВЕТ ВО МРАКЕ
Когда я проснулся, вокруг меня стоял непроницаемый мрак. Я протянул руки и раздвинул занавес алькова. Ни один луч света не проникал в комнату. Я чувствовал себя свежим и бодрым, – вероятно, я спал долго.
Я пошарил на столике, ища часы. В это время кто-то постучал в дверь.
– Войдите! – крикнул я.
Вошел слуга-негр с лампой.
– Который час? – спросил я.
– Девять часов, сеньор!
Он поставил лампу и вышел. За ним появился другой, неся на подносе золотую чашку.
– Что это такое?
– Chocolate, сеньор! От доньи Хоакины.
Я выпил шоколад и поспешил одеться. Меня беспокоил вопрос, следует ли мне уехать, не простившись. Но все же на сердце стало легче. Утро всегда приносит облегчение страданию как физическому, так и нравственному. Я часто испытывал на себе этот закон природы. Утренний воздух успокаивает тревогу. Восходит солнце, и возникают новые планы, появляется новая надежда…
Я избегал зеркала, не смел подойти к нему.
«Нет, не буду смотреть на того, кого я ненавидел всей душой, на ту, которую любил всем сердцем! Скорее в лагерь!..»