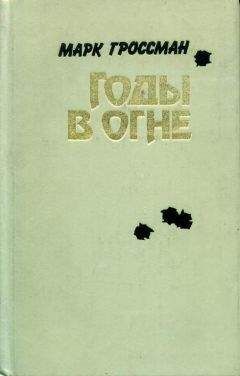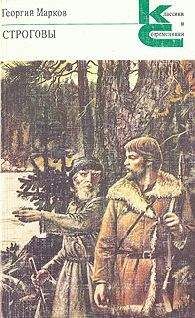Марк Гроссман - Камень-обманка
Лишь счастливцам удавалось попасть в какое-либо строение — конюшню, амбар, хлев. Остальные же падали прямо на улице или, не дойдя до селения, валились в снег и замерзали.
Солдаты силой отбирали у обывателей продовольствие. Крошки хлеба не оставалось там, куда приходила эта разъяренная, озверевшая толпа. А если, к несчастью, попадалось вино — творилось совсем невообразимое. А потом? Только слезами и опохмелялись.
В каждом поселении к этой толпе присоединялись местные гарнизоны.
На сотни верст путь был так завален замерзшими трупами людей и лошадей, что походил на лесную просеку с торчащими пнями.
Противник подсылал к нам своих пропагандистов, чтоб мы оставили это бесцельное бегство, сдались в плен или шли домой, даже обещали еду для спасения, но злоба и фанатизм офицеров мешали этому.
У меня не хватало сил проклинать правителей, которые вели армию и казачество в это ледяное болото. Владела всем существом одна только тупая тоска.
Взглянул бы сейчас Колчак на деревни и села, которые мы проходили! Никакая чума и холера не в силах сделать того, что сделала обезумевшая толпа. Во всех избах — разбитые окна, оборванные ставни и двери. Все заборы и крыши растащены. В кострах сгорали корыта, столы, стулья, даже детские люльки.
В каждой избе после прохода дикой толпы стояли стон и плач, так как разоряли все подряд. Сдирались последние опорки с селян — босой уже армии нужны были обувь и теплая одежда.
Лошадей у населения отнимал всякий вооруженный. Кто успел захватить коня, тот гнал его, не кормя, не поя, и без отдыха, пока животное не падало от истощения. Измученных лошадей бросали посреди дороги, а казак хватал где-либо другого коня и мчался дальше, — и так без конца.
Разразилась эпидемия тифа. Люди валились на пути и умирали.
Шум двигавшейся толпы, храп загнанных животных, крики обезумевших погонщиков смешивались с предсмертными воплями и стонами погибавших. Всюду — в сугробах, в покинутых обозах — слышались непрестанные мольбы о помощи. Одни заклинали захватить их с собой, другие просили хлеба, убеждали с градом катящихся слез передать там, впереди, родным, о смерти, с которой они заживо примирились и ждали с часа на час. Иные, уже уйдя в другой мир, безучастными стеклянными глазами смотрели на бегущую толпу: в небо приходящим отказа не бывает.
Толпы людей, корчась в предсмертных судорогах, беспрестанно посылали проклятия правителям и командирам — и плакали. Но мутный вал еще способных двигаться людей катился дальше. Живые равнодушно попирали ногами незастывшие трупы. Смерть лютовала сослепу, брала расплохом, и кругом был сумрак жизни, — где из него исход?
На дорогах образовались целые коридоры из брошенных телег, саней, орудий, всевозможных казенных и гражданских обозов. Лошади, изнуряясь, дохли прямо в упряжках.
В покинутых обозах заносило снегом тысячи возов сукна, мебель, утварь. Серебро и золото валялись вперемежку с трупами и оружием — никому не нужен был теперь этот бесполезный дорогой хлам. Все искали лишь хлеба, хлеба и хлеба.
И я вдруг подумал, сколько крови, слез и обмана стоили богатства, и померещилось мне, что у золота волчий оскал, хищный и злобный… Копили, копили да черта и купили…
Однако я отвлекся.
Зверства, убийства и грабежи стали ужасными спутниками бегущей армии. По ночам путь ее отмечала широкая и длинная полоса зарева. То полыхали пожары.
Не лучше было и на линии железной дороги. В два ряда сплошь стояли вагоны и застывшие паровозы. И так почти от самого Омска до Красноярска, сотни и сотни верст! То тут, то там попадались вагоны с трупами. Кто умер от тифа, кто от голода, кто от руки более сильного, отобравшего хлеб и теплую одежду. А рядом поезда и поезда, набитые всяким имуществом.
Потом уже я узнал, как все случилось. В конце сентября, трагически запоздав, адмирал приказал эвакуировать Омск. Со станции выпустили около трехсот эшелонов. За Тайгой головные составы омской эвакуации уперлись в хвостовые чешские поезда.
Чехи, стремясь как можно скорее уйти на восток, грубо отказались пропустить вперед своих союзников. Спасая шкуру, они совсем уже перестали считаться и с адмиралом, и с его правительством.
Впрочем, легче им от этого не было. 27-я дивизия красных догнала возле станции Тайга какие-то белопольские части — 12 тысяч штыков. Треть солдат была уничтожена в скоротечном бою, остальные — сдались.
Наши поезда заглохли, и многие из них стали легкой добычей стремительного наступления красных. Но это была еще не вся беда. Чуть не половина эшелонов везла на восток семьи офицеров и гражданских высокопоставленных лиц. Брошенные на произвол судьбы, они еще до появления противника находили свою смерть от голода, холода и сыпняка. Это нанесло страшный моральный удар офицерству армии. Оно открыто роптало на Колчака, Колчак обвинял в предательстве чехов, чехи — адмирала, не проявившего необходимой предусмотрительности, — и ничего нельзя было понять в этом шуме воплей, упреков и взаимных обид.
Мы шли, ужасаясь картинам гибели и развала на нашем пути.
Видя все это, офицеры полка предложили казакам, пока еще есть возможность, вернуться, кто хочет, домой, в станицы, для спасения своих очагов.
Большинство, сознавая гибель армии, так и поступило. Некоторые же сотни решили идти дальше с надеждой, что счастье не совсем изменило им.
Мы шли в стороне от пехоты, которая представляла собой неописуемый сброд, и кое-как добрели до Красноярска.
Гарнизон города и окрестное население, подготовленное подпольщиками неприятеля, а более того — зверством правителей и контрразведки, встретили нас огнем И ненавистью. И это был конец.
Миновали эту могилу, благодаря упорству, немногие части. Но и дальнейший их путь был ничем не легче описанного.
Мой полк после потерь на фронте и во время бегства уменьшился до одной сотни. Остатки полков сливались и двигались на восток, в Забайкальскую область. Она еще находилась под атаманством Семенова и служила в то время надеждой, кажется, единственной для изнуренных войск.
Путь до Забайкалья был долог, сопряжен с ужасными лишениями и невзгодами.
Меня больше всего мучили не голод и холод, а враждебность населения. Для него армия, в которую я попал, была чужой и ненавистной. И я думал: отчего я очутился в этом воинстве? Почему не сбежал, не бросил полк при первой же возможности? И помыслилось: я только крупица, немощная крупица в этой страшной снежной буре.
Тогда я собрал остатки сотни, велел своей властью разъезжаться по домам, простился со всеми. Я и сам был бы рад помириться с новой властью, да ведь не простит она меня. Так я считал.