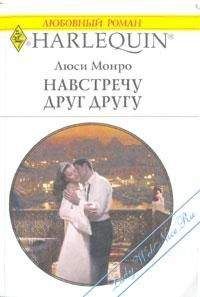Александ Казбеги - Хевисбери Гоча
Жадно подставил он лицо ветру и снегу, словно ожидая спасения и успокоения от них, и они без помехи хлестали его.
Он думал, что, охладив лоб, охладит и кровь свою, успокоит взбудораженное сердце. Но увы! С грустью убеждался он, что образ Дзидзии неодолимо овладел его сердцем и тихо, бережно и сладостно баюкает его; баюкает так осторожно, так заботливо, как только мать может качать своего первенца.
Онисе решил не глядеть на девушку, не говорить с ней, зная, какая это будет для него пытка. Глядеть? Говорить? Шевельнуться не смел он, не смел вздохнуть, чтобы невольным движением не выдать себя.
Притихла и Дзидзия, сидела с низко опущенной головой. Кто скажет, что бушевало в ней в этот час, какие волны вздымались в сердце, к чьему образу с ужасом и тоской влеклась ее мысль?
Для чужого взора сердце ее было – словно безмолвная черная пропасть: ничего там не разглядишь, ни на что не получишь ответа.
Дзидзия была в легком шитом архалуке, плечи она закутала в шаль, – плохая защита от ветра и непогоды! Она замерзала, холод пронизывал ее, но она молчала.
А дружке это и в голову не приходило, он весь ушел в свои думы. Будущее Дзидзии было поручено общиной его заботам, его совести. Оберегать имя и честь этой девушки, заступаться за нее даже перед мужем – все это становилось отныне святым его долгом, – а, по слову горцев, «доверенное даже волк бережет». Что же делать ему со своею любовью? Всепоглощающая страсть пронизывала все его существо, безжалостно терзала мозг и сердце. Как примирить эту боль с возложенным на него непосильным бременем?
Тем временем ветер и стужа брали свое. Девушка стала дрожать. Почувствовал Онисе ее дрожь, вздрогнул сам, как ужаленный, повернулся к ней. Тут только заметил он, как легко одета невеста. Дзидзия, его сестра, его святыня, страдает, а он даже не позаботился защитить ее!
Один поворот головы, один взгляд, одно легкое прикосновение – и Онисе вспыхнул, как порох.
– Ох, девушка, да ты замерзла совсем, а я и позабыл о тебе! – воскликнул он, весь дрожа, теряя всякую власть над собой.
– Ничего, не беда, родимый! – сказала девушка нежно и еле слышно. В ее голосе, бог весть отчего, звучала печаль.
– Бедная ты моя, да как же это не беда? Что станется со мной, если ты захвораешь? – И, сорвав с Дзидзии мокрую шаль, Онисе откинул полу бурки, укутал плечи девушки, обнял ее и с силой притянул к себе ее тонкий стан. Он прижал ее к своей груди. Сердце бурно забилось. Дзидзия не противилась, – оттого ли, что страсть Онисе напугала ее, подчинила себе, оттого ли, что она поняла его муки. А он, теряя рассудок, все сильней обнимал ее, все крепче прижимал к своей груди.
Одно только чувство владело им в эти мгновенья – чувство беспредельного счастья, не сравнимого ни с чем на свете. Что ему люди, весь мир? Стоит ли думать о них? Он медленно склонялся к лицу девушки, горячее дыхание обжигало ее. Он приникал к ней и шептал те странные речи, которые может шептать только любящий, речи простые, немногословные.
– Тебе холодно, все еще холодно?… Жизнь ты моя! – прерывисто шептал Онисе, и казалось: изо рта вырывался пожирающий огонь.
Дзидзия притихла, словно притаилась, молча прижалась к груди Онисе, и сердце ее трепетало от радости и страха. Раньше у нее хватало сил скрывать от дружки свое чувство, но теперь, когда лицо Онисе было так близко от ее лица, когда она чувствовала его обжигающее дыхание, – все затаенное вырвалось наружу и она с глубоким вздохом взглянула на него благодарными глазами.
Непостижимая сила влекла их друг к другу, и в одном чувстве, в одном порыве и помимо их воли их губы слились.
6
Не было бы, верно, конца ласкам влюбленных, если бы не прервала их безжалостная случайность. Захолодал в пути один из поезжан, захотелось ему погреться водкой. Придержав коня, стал он дожидаться саней, в которых лежали бурдюки.
Когда подъехали сани, увидал он, что Онисе, словно прячась от холода, уткнулся головой в бурку. Не понравилось это горцу: нельзя мужчине показывать свою слабость перед женщиной, стыдно это и унизительно, а позор одного наводит и на остальных тень позора.
Вот почему поезжанин этот, хотя и в шутку, занес нагайку над головой Онисе и громко крикнул ему:
– Эй, ты, голова, или замерз совсем?
Вздрогнул Онисе. Он поднял голову и, как во сне, огляделся невидящими глазами. Чувство обиды угасло мгновенно. Онисе пришел в себя. Жестокая, безжалостная правда жизни лишала его всякой надежды на счастье. Человек, только что предававшийся безрассудной страсти, снова стал человеком разумным, отвечающим за себя. Сознание своей ошибки потрясло его, искорка раскаяния обожгла его душу. «Значит, тщетно билось его сердце в ожидании счастья? Значит, напрасно встревожил он Дзидзию, склонив ее на ответные ласки?» Вихрем кружились мысли в его голове, и чей-то неотступный голос упрямо и тонко звенел в ушах: «Напрасно ты убиваешься».
– Да что с тобой, парень, уж не пьян ли ты? – прервал молчание всадник, на которого все еще продолжал удивленно глядеть Онисе.
– Ну, чего тебе надо? – произнес он наконец, с трудом отвлекаясь от своих мыслей.
– Уж не заболел ли ты?
– Не знаю, право, что-то нехорошо мне.
Всадник вплотную подъехал к саням, наклонился и заглянул в лицо Онисе. Тот отвернулся и сердито воскликнул:
– Ты что смотришь? Чего тебе надо от меня?
– Ничего мне не надо, – удивился поезжанин и прибавил:– Я хотел только посмотреть, не жар ли у тебя, – красный ты или нет?
– Что ты разглядишь в темноте? – проворчал Онисе. – Верно, жар у меня, и голова болит и кружится, – прибавил он раздумчиво.
Поезжанин пристально всмотрелся в Онисе, словно не поверил ему, хотел что-то сказать, но сдержался и рассеянно потрепал коня по груди. Видно, пришла ему в голову беспокойная мысль, и от этой мысли забыл он и про стужу, и про водку, ради которой подъехал к саням.
Оба молчали. Каждый ушел в свои мысли, каждый старался разобраться в смутных своих чувствах.
Вдруг воздух огласился звуками веселой шуточной песни:
«По струнам чианури
Води смычком, играя!
Не тронь жену соседа:
Она – сестра родная!..»
В самое сердце ужалили Онисе эти слова. Песня приближалась, – это веселились поезжане в ожидании отставших саней.
Вот и окружили всадники подоспевшие сани, град веселых шуток посыпался на Онисе. Но первый всадник торопливо предупредил товарищей, что Онисе занемог и ему не до шуток. Поезжане притихли и молча последовали за санями.
Злой ветер щедро осыпал всадников с головы до ног колючим мелким снегом, налипавшим на ворс их бурок, и всадники становились похожими на белые изваяния. Так двигался молчаливый свадебный поезд следом за первым дружкой, замкнутым и мрачным, сопровождая непорочную девушку, которой не дано было знать, сколько испытаний готовит ему будущее в отмщение за сладостный миг первого чувства.