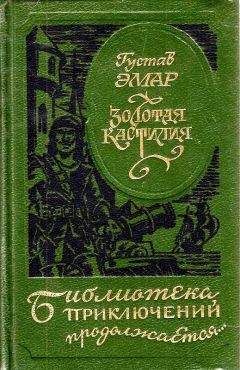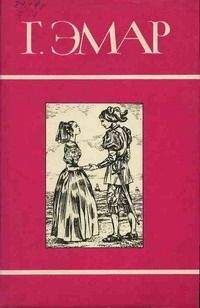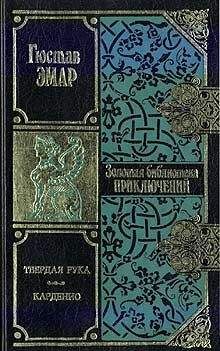Густав Эмар - Морские цыгане
Донна Клара придвинула брату стул, села на другой, напротив него, и, нежно положив свою руку на его руку, сказала:
— Теперь говори, брат, я тебя слушаю.
Маркиз устремил проницательный взгляд на сестру и, видя ее столь печальной и бледной, подавил вздох.
— Ты нашел меня сильно изменившейся, не правда ли, брат? — спросила она с меланхолической улыбкой. — Это оттого, что я очень страдала с тех пор, как мы не виделись, но не об этом теперь идет речь, — прибавила она. — Говори, умоляю тебя!
— Бог тому свидетель, сестра, — сказал дон Санчо, — мне бы очень хотелось приложить бальзам к твоим ранам, пролить хоть мимолетную надежду в твою душу, но я, напротив, боюсь, что мои открытия, очень неполные, даже, я бы сказал, очень мрачные, могут только увеличить, если это возможно, твою горесть.
— Да будет в том воля Божия, как и во всем другом, брат мой, — ответила она с покорностью. — Я знаю, как ты любишь меня, и если ты принес мне горестные известия, пусть будет так, потому что я искренне убеждена, что твоя воля этому противится. Теперь говори без опасения; что бы это ни было — я тебя заранее прощаю.
— Я ожидал от тебя этих слов, сестра, и, признаюсь, мне было это необходимо, чтобы осмелиться все тебе рассказать. Выслушай же меня, потому что это дело гораздо таинственнее, нежели ты подозреваешь… Ты так же хорошо, как и я, и даже лучше меня знаешь нашего отца — воля его неумолима, жестокость холодна, гордость громадна. Я не сообщу тебе ничего нового, если скажу, что после смерти твоего мужа он ни разу не произнес твоего имени. Узнав о твоем внезапном исчезновении, он не выказал ни удивления, ни беспокойства, не сделал ни одного шага, хотя бы формального, для того, чтобы узнать, куда ты девалась. Когда же о тебе расспрашивали, он так решительно отвечал, что ты умерла, что, признаюсь тебе, сестра, я был сам обманут этой ложью и оплакивал тебя, как будто ты действительно лишилась жизни.
— Мой добрый Санчо, как же ты узнал, что я еще жива?
— Только несколько часов тому назад я узнал от Бирбомоно, что ты жива.
— Как! И все это время, столько лет, ты думал?..
— Да, сестра, кто же мог вывести меня из заблуждения? Ты помнишь, что, отдав твоему мужу последний долг, внезапно вызванный в Мексику отцом, я уехал отсюда и вернулся только двадцать четыре часа тому назад; я ездил в Испанию, где жил несколько лет, потом посетил некоторые иностранные дворы, так что все соединилось, чтобы сгустить покров тайны, которым, без сомнения, с намерением отец закрыл мне глаза. Однако я должен сказать тебе, что невольно, когда воспоминания о тебе посещали меня, я не мог утешиться в этой потере, я чувствовал, что сомнение пробуждается в моем сердце, и хотя ничто не оправдывало этого сомнения, я надеялся, что когда-нибудь свет прольется на эту катастрофу: или я узнаю, каким образом ты умерла, или ты вдруг явишься моим глазам. Странное дело: годы не только не ослабили эту мысль, а напротив, сделали ее сильнее и живее, так что, хотя ничто не рассеяло мрак, среди которого я находился, я был почти уверен, что ты жива, и убедил себя, принимая во внимание ненависть нашего отца, что слух о твоей смерти был нарочно им распространен, чтобы окончательно замкнуть уста тем из наших родных, которые вздумали бы заступиться за тебя перед ним. Как видишь, я не ошибался!
— Правда, брат, но если бы случай не привел тебя сюда?
— Извини, — перебил он с живостью, — случай ничего не значит в этом деле, сестра, сомнение, о котором я тебе говорил и которое мало-помалу перешло в уверенность, заставляло меня желать вернуться на острова. Я не без основания говорил себе, что если ты действительно жива, то я найду тебя только здесь. Я уже хотел принять необходимые меры для того, чтобы вернуться в Америку, когда в ту минуту, когда я меньше всего думал об этом, отец объявил мне, что его величество удостоил меня чести, назначив губернатором Эспаньолы.
— А отец остался в Испании?
— Нет, сестра, он выпросил себе интендантство в Панаме, но не знаю по какой причине теперь передумал и находится пока в Маракайбо.
— Так близко от меня! — прошептала она с трепетом ужаса. — Но что мне до того! Сейчас мне нечего его опасаться.
— Теперь, когда я разъяснил первую причину моего возвращения на острова, я должен вернуться назад, к тому времени, когда я провожал отца в Испанию, то есть через два года после смерти твоего мужа и твоего исчезновения. Здесь я прошу тебя, сестра, слушать меня со всем вниманием: рассказ мой становится до того таинственным, что я сомневаюсь, возможно ли мне будет когда-нибудь отличить истину от лжи и разрушить мрачный заговор, составленный герцогом с тем гибельным искусством, которое могла ему внушить одна только ненависть. Через несколько месяцев после нашего приезда в Мадрид отец, с которым я очень мало общался, хотя жил в нашем фамильном дворце, находящемся, как тебе известно, на улице Аточа, однажды вечером после ужина объявил мне, что уезжает и что его поездка продлится, может быть, несколько месяцев. Отец не заблагорассудил сообщить мне, куда и зачем он едет, я не смел расспросить его и лишь почтительно ему поклонился. Он простился со мной и через час сел в карету. Признаюсь тебе, сестра, что в первую минуту я не заботился о причинах, заставивших отца предпринять это путешествие, мне до этого было мало дела. Я был молод, любил удовольствия, вращался в легкомысленном обществе, отсутствие отца если и не доставляло мне удовольствие, то, по крайней мере, оставляло меня равнодушным. Только через несколько дней на обеде у герцога Медина дель-Кампо я случайно узнал, что отец уехал во Францию.
— Во Францию?! — вскричала, вздрогнув, донна Клара.
— Да, мне сказал об этом сам герцог Медина, спрашивая меня, что за дела могли отозвать моего отца в Париж. Я ответил, что не только ничего не знаю об этих делах, но что мне даже не было известно, что отец пересек Пиренеи. Тогда герцог понял, что допустил неловкость, он закусил губы и переменил тему разговора… Путешествие моего отца длилось семь месяцев. Однажды утром, проснувшись, я узнал от моего камердинера, что ночью он вернулся. Я пошел поздороваться с ним. Отец был еще мрачнее и холоднее, чем я привык его видеть. Он немного поговорил со мной о посторонних вещах, но о своем путешествии не сказал ни слова.
Я подыграл его сдержанности. Только за завтраком он сообщил мне, что один из наших дальних родственников, граф де Тудела, о котором я до тех пор ничего не слышал, умер, и отец решил взять на свое попечение его единственного сына, оставшегося сиротой, и воспитать его, как своего родного сына. По приказанию отца слуга привел очаровательного шестилетнего мальчика, к которому, признаюсь, я тотчас же почувствовал какую-то безотчетную симпатию. Этого ребенка знала и ты.
— Гусман де Тудела? — вскричала она с живостью.
— Он самый… Но мальчик оставался в нашем дворце только несколько дней. Отец, неизвестно по какой причине, поспешил отдать его в Иеронимитский монастырь, где, как тебе хорошо известно, воспитываются дворяне. Мой отец, хотя и был очень строг к этому бедному ребенку, однако внимательно наблюдал за ним и, по-видимому, радовался его успехам. Я часто ездил навещать Гусмана в монастыре; мы много разговаривали с ним, иногда я брал его гулять в город. Бедный ребенок очень этому радовался. Таким образом прошло несколько лет, потом отец забрал его из монастыря и отдал в морской корпус; словом, теперь, несмотря на свою молодость, Гусман — офицер испанского флота. Через год после того как Гусман переехал к нам, отец опять ездил во Францию. На этот раз его отсутствие продолжалось также несколько месяцев, и, вернувшись, он привез еще одного ребенка; на этот раз это была восхитительная девушка.
— Хуана, не так ли? — вскричала донна Клара.
— Откуда тебе известно ее имя, сестра? — с удивлением спросил дон Санчо.
— Неважно, откуда бы я его ни знала, брат.
— Однако…
— Разве ты не помнишь, ведь я только что рассказывала тебе, как познакомилась в Сан-Хуане с этой девушкой?
— Правда, — ответил он, ударив себя по лбу, — не знаю, как это я забыл.
— Продолжай, умоляю тебя.
— Итак, это была Хуана, как ты верно сказала, сестра, но Хуана прибыла не одна, ее провожал офицер, которого мой отец называл ее опекуном. Это был дон Фернандо д'Авила. Оба остановились во дворце. Я знавал прежде дона Фернандо, честного и храброго воина, которому оказал некоторые услуги; но насколько мне было известно, у отца не было никакой причины протежировать ему. Однако герцог, по-видимому, очень полюбил этого человека и имел намерение серьезно помогать его продвижению по служебной лестнице. Это очень заинтересовало меня, так как мне был прекрасно известен себялюбивый и надменный характер нашего отца. Иногда я спрашивал себя, по какой причине он принимает такое горячее участие в этом человеке: действительно, дон Фернандо д'Авила, который после десятилетней войны во Фландрии с чрезвычайным трудом достиг чина альфереса, благодаря горячей рекомендации отца в один год сделался капитаном и получил приказание ехать на острова командиром роты, которую на свои деньги набрал и экипировал отец. Девочка, несмотря на свою юность, должна была ехать с ним. Не знаю, какое тревожное любопытство заставило меня в день отъезда дона Фернандо проводить его, без ведома моего отца, несколько миль по дороге в Севилью, откуда он должен был отправиться в Кадис. Не стану пересказывать тебе, сестра, разговор, который состоялся у меня с капитаном; повторю тебе только то, что я узнал. Отец ездил во Фландрию, где находился дон Фернандо, предложил ему взять попечение над ребенком, уверив его, что не только даст ему деньги, необходимые для воспитания этой девочки, но что поможет ему сделать карьеру. Дон Фернандо был беден, не имел никаких могущественных покровителей, способных вывести его из бедственного положения, в котором он прозябал. Не осведомляясь о причинах, заставлявших человека с именем и званием моего отца делать ему такие необыкновенные предложения, он поспешил принять их; так хотелось ему во что бы то ни стало выйти из ужасной нищеты, которую он терпел так давно. Он обещал нашему отцу слепо ему повиноваться и немедленно последовал за ним в Париж. Там герцог отдал ему ребенка, после чего они все втроем поехали в Мадрид. Таким образом, милая сестра, по приказанию отца были взяты на воспитание двое детей. Мыс тобой прекрасно знаем герцога Пеньяфлора и не станем оскорблять его предположением, будто любовь к человечеству и филантропия побудили его воспитать этих двух сирот. Какая же причина заставила его действовать подобным образом? И кто такие эти люди? Вот что нам надо узнать.