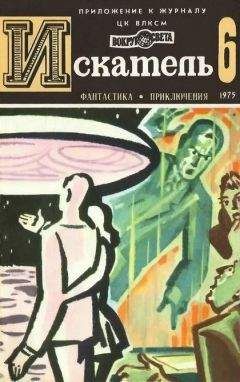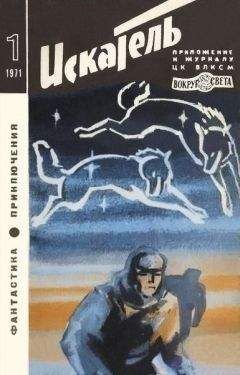Хассо Грабнер - Искатель. 1976. Выпуск №4
— Я всегда считал: миром правит случай, — заговорил Головкин. — Иди через бурелом вероятностей — обязательно встретишь счастливый случай…
Как раз в этот момент над ними что-то зашуршало, и, порхнув листочками, словно крылышками, на тротуар легла тонкая книжица. Друзья подняли головы и увидели в окне второго этажа симпатичную девушку с узлом темных волос на голове.
— Вы… извините, — сказала девушка и покраснела. — Это братишка выкинул. Такой глупый.
— Баловник? — быстро поинтересовался Головкин.
— Он большой, только глупый.
— Бывает.
— Вы ее положите в сторонку, я сейчас выйду.
Рядом с девушкой показался крепкий парень с широкоскулой улыбкой.
— Не выйдет она, у нее нога болит, — сказал парень.
— Тогда ты выходи.
— У меня тоже нога болит.
— Эпидемия?
Парень еще больше заулыбался и подмигнул.
— А вы не могли бы занести? Под арку направо, второй этаж, десятая квартира.
— Пожалуйста, если сестра попросит.
Девушка еще больше покраснела и спряталась в окне.
— Вот видишь? Придется тебе на одной ноге…
— Я зайду, — сказал вдруг Соловьев, поднимая книжку.
В подъезде слабо пахло одеколоном. Улыбаясь от непонятного волнения, он взбежал на второй этаж, мгновение в нерешительности постоял у двери и коротко позвонил. Дверь сразу открылась. За порогом стоял худощавый, чуть сутуловатый парень в ярко расцвеченной рубашке.
— Прошу к нашему шалашу!
Соловьев шагнул и остановился в светлом проеме двери. Перед ним стояла та самая девушка. У ее ног лежал солнечный квадрат, по которому ползали тени от ветвей за окном.
— Ну зачем же, — растерянно сказала она. — Это все братик выдумал. Такой глупый…
Парень вбежал в комнату, подтолкнул стоявшую неподвижно девушку.
— Веру-унчик! Здесь тебе не музей — гостей улыбками кормить. — И повернулся к Соловьеву. — Она экскурсоводом работает. На людях вроде, а все не привыкнет. Дрожит перед мужиком, как перед Змеем Горынычем… Верите ли: в этой келье вы первый. Сюда, как в женский монастырь, мужчины не ходят…
Несмотря на полную неопытность в таких делах, Соловьев подумал, что здесь и в самом деле не место мужчине. Комната была маленькая и необыкновенно чистая, аккуратная. Скромный столик с зеркальцем и всякими баночками-флакончиками, белая гладенькая кровать с кружевной накидкой на подушке, небольшой шкафчик возле кровати и еще один шкаф, полный книг за стеклянными дверцами…
— Чистюля! — сказал парень с двойственным оттенком в голосе — то ли пренебрежительно, то ли доброжелательно — и кивнул на другую, раскрытую дверь, за которой виднелась неубранная раскладушка: — Не то что я. Ну, будем знакомы. Гошка, если угодно.
— Григорий, что ли?
— Это был бы Гришка, а я, стало быть, Георгий. Только, увы, не победоносец.
Он повернулся к девушке и воскликнул умоляюще:
— Верунчик, не позорься. Чего стоишь, как таксист в обеденный перерыв? Накрывай стол.
— Да ничего, — смутился Соловьев, отступая к выходу. — Да и некогда мне…
— Надеюсь, вы к нам еще заглянете?
— Да что вы, зачем же!
— Чтобы занести книжку, — серьезно сказал Гошка.
Соловьев покраснел, только теперь заметив, что все еще держит в руке подобранную под окном книжицу…
Не помня себя, он сбежал вниз по лестнице и в подъезде столкнулся с Головкиным.
— Я уж думал: ты тут прописался.
Соловьеву это показалось страшно смешным, и он расхохотался так громко, что друг удивленно посмотрел на него.
— Смотри не ходи сюда больше…
Они пошли по улице, думая каждый о своем.
— Не больно улыбайся, а то на тебя все женщины оглядываются, — сказал Головкин.
— А ты знаешь, сколько у нее книг?!
— Знаю.
— Откуда? — насторожился Соловьев.
— Так видно ж: тебя что-то так поразило, что заговариваться начал. Я и подумал: наверно, там много книг.
— Зачем их столько одному человеку?
— Наверное, для того, чтобы из окна ронять.
Соловьев испуганно посмотрел на друга.
— Это не она, — горячо сказал он. — Это у нее такой брат, большой, а глупый.
— Да ты не волнуйся…
— Чего мне волноваться?!
— Вот и я говорю: зачем одному человеку много книг? Все равно он их не прочитает. А прочитает, так забудет… Впрочем, погоди-ка. Каждому в отдельности много не нужно, а вот всем вместе, пожалуй, требуется именно много. Именно во множестве — мудрость человечества. Один человек слаб, он склонен обо всех судить по себе. Если я не прочту, то и другие не осилят, то, стало быть, зачем они? Верно я говорю?..
Соловьев молчал, понимая, что друга уже понесло и что теперь он будет говорить, пока не выговорится.
— Ты никогда не задумывался, почему в мрачные времена отдавались приказы жечь книги? Потому что у кого-то, обремененного властью, возникал этот же самый вопрос: «Зачем столько книг, если я не могу их прочесть?» А подразумевалось: «Если я не могу, то как смеют другие!..»
— Что ты хочешь этим сказать? — растерянно перебил его Соловьев, занятый своими мыслями и мало что понявший из рассуждений друга.
— …Нет, пусть будет больше книг, как можно больше! Информационный взрыв — это миф, признак паники властолюбивого индивидуума перед морем знаний. А ведь знаний и должно быть море. Только переплетаясь в новых и новых интерпретациях, они способны порождать открытия…
Он вдруг остановился, ухватил Соловьева за рукав и, побледнев от волнения, произнес громко и высокопарно:
— Мысль человеческая, что красная девица, заточена в темницу страниц. Освободить ее может только человек, открывший книгу, только другая мысль. Как в сказке о заколдованной царевне, которую можно разбудить лишь поцелуем…
Мимо проходили люди, снисходительно оглядывались, как на пьяных. Солнце жарило по-летнему, солнце кидало на асфальт ослепляюще белые пятна, по которым томно ползали тени от ветвей. Соловьев глядел на эти тени и все вспоминал невысокую девушку, ее растерянные глаза, ее руки, гибкие и испуганные…
III
Ночью разгулялся веселый ветер «моряк», принес дождь. Гошка проснулся на рассвете с непонятным беспокойством в душе, встал, поеживаясь от холода, босиком прошлепал к окну, заглянул за штору. Крыша соседнего дома казалась черной от дождя и слабо поблескивала. Ветер играл с одиноким голым тополем, стоявшим посередине двора. В просвете между домами беспокойно шевелились огни порта, и в такт покачиваниям стучали капли по жестяному карнизу. Время от времени ветер стряхивал этот стук и, словно бы скрутив дождь в тугие жгуты, хлестал ими по стеклам, как мокрыми простынями. Это напоминало удары волн о крутые скулы сухогруза.