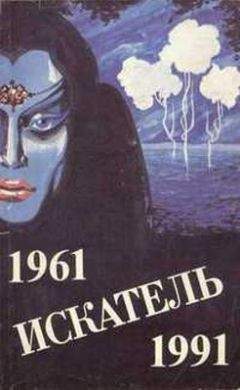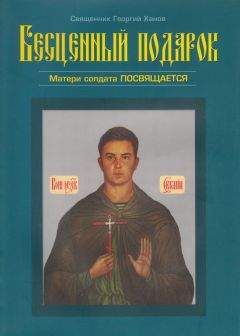Георгий Вирен - Искатель. 1988. Выпуск №5
— Ну чего уж скрывать… В церковном хоре она пела. Тем к жила.
— Где? В какой церкви? — быстро спросил Семён.
— В церкви Успенья Богородицы, в селе Романове… Это недалеко, по Киевской дороге… Там где–то рядом и комнату снимала.
— А адрес вы знаете?
— Вы мне только правду скажите, товарищи чекисты, ей за это что будет? — Женщина переводила глаза с Семёна на Костю, а потом, выбрав Костю, жалобно попросила: — Только честно скажите!
— Анна Сергеевна, ну что же вы такое говорите? — мягко укорил её Костя. — Да пусть пела, разве это запрещено? Никто вашу дочь не думает преследовать, честное слово. Нам нужны только люди, с которыми она общалась в последнее время.
— Я–то там не бывала ни разу, но Люда сказала, что она живёт… Нет, не в самом селе, — женщина силилась вспомнить, но что–то застило её память. — Рядом — посёлок дачный… Забыла название… Сосновка, что ли? Нет, не помню…
Семён досадливо хлопнул ладонью по коленке, и женщина вздрогнула.
— Извините, — сказал он. — Может быть, детали вспомните? Что за дом? Что за хозяева?
— Да, помню! — обрадовалась Анна Сергеевна. — Помню! Люда говорила, что от посёлка до церкви ей четверть часа идти — сначала лесом, а после полем. Что хозяйка — старушка. И ещё в доме инвалид живёт.
— Имя, имена не говорила?
— Имя? Ой, что–то крутится… То ли Михаил этот инвалид, то ли… Макар? Или Андрей?… Нет, не помню.
* * *— Костя, мы что–то не то делаем, — ожесточённо сказал Семён, когда сели в машину. — Мы делаем что–то не то, — повторил он размеренно и зло. Не тебе объяснять, как я уважаю Деда. Он для меня и мать, и отец, и Альберт Эйнштейн. Но я не могу из–за любви к нему обслуживать его блажь, не могу! — сорвался он на крик.
— Успокойся ты, остынь, — ответил Костя.
— В свои семьдесят семь он может позволить себе каприз, а я?! Работа стоит, лаборатория срывает план, сотрудники скоро забунтуют, а я устраиваю дела каких–то автомобильных лётчиков с их дурацким «Шаттлом»! Из плана полетела моя монография, на конференцию в Лондон я не поехал, а ведь меня Говард приглашал, сам Бенджамен Говард! А я сейчас вместе с тобой должен искать какое–то Успенье Богородицы! Что мы там найдём?! Ну богомольная старуха, ну инвалид юродивый, дальше что?! Ну секта, какие–нибудь трясуны–баптисты…
— Баптисты — не секта и не трясуны, — возразил Костя.
— Я ничегошеньки в этом не понимаю! Я синагогу от мечети не отличу, я физик — и не самый плохой! — а не поп и не сыщик! Я понимаю, Костя, я всё понимаю, я знаю, что без Деда я бы и сейчас преподавал «Физику» Пёрышкина в шестом классе Омской школы, но ведь… Ведь это что выходит — я тебя породил, я тебя и убью?!
— Семён, — сказал Костя напряжённо, — тебе не кажется, что мы в тупике?
— Да! Именно в тупике! С самого начала всей этой странной затеи!
— Я не о том, — нервно перебил Костя. — Не кажется ли тебе, что все мы, учёные, в тупике? Ведь всем давно ясно, что мы раздробили науку на тысячи осколков, направлений, узеньких штреков, каждый долбит свой лаз и не видит общей цели. Движение для нас — всё, а зачем, куда? Считается неприличным, наивным задавать этот вопрос. А Дед — гений. Он ищет принципиально новые пути, парадоксальные, невероятные. Поверх барьеров. Их нельзя выдумать за столом, их надо отыскать в жизни, понимаешь? Позавчера был у него на даче. Он выписал себе штук сто книг по философии, истории, этнографии Индии и Китая, обложился ими с трёх сторон, сидит — и конспектирует, как первокурсник. Ищет. Уверен, что все возможные глобальные открытия предугаданы много веков назад. Думаешь, почему он так вцепился в Зеркальщика? Потому что — «свет мой, зеркальце, скажи да всю правду доложи…». Откуда это взялось? Вся история цивилизации переполнена предсказателями будущего — пророками, прорицателями, оракулами, пифиями. И ведь угадывали, черти, не раз угадывали! А Дед сидит, чешет лысину линейкой, приговаривает. «Нет дыма без огня! Бороться и искать…», и пишет, как всегда, двумя карандашами: синим — конспект, красным — свои соображения. Анна Егоровна мне жаловалась на кухне; по двенадцать часов сидит, как молоденький, она его гулять силой вытаскивает… Семён, скажи честно: неужели ты допускаешь, что Дед свихнулся?
Семён убито вздохнул.
— Нет, конечно…
— Вот так–то. Ладно, едем в Романово, — Костя включил мотор. — А Бенджамен Говард тебя подождёт. И Нобелевская — тоже…
* * *…Сначала Матвей относился к нему с иронией, потом с симпатией, а потом стал считать как бы другом. Отрезав себя от старых друзей и связей, он хотел одиночества, но выходило так, что совсем без людей нельзя. После смерти тёти Груни и ухода Милы Матвей остался с Каратом, и доходило до того, что тянуло повыть с ним на пару. Тогда он шёл к Ренату, отрывал его от работы, и тот — близоруко и покорно — соглашался идти обедать, или дрова колоть, или в лес.
А впервые Ренат сам пришёл к Матвею с наивно–наглой просьбой: не может ли он дровами помочь, а то холодно. Матвей подивился на здорового мужика, который не удосужился дровами запастись, а теперь клянчит на дармовщинку. Но что–то удержало его от резкого отказа: наверное, нелепый вид Рената — ватник, золотые очки и лаковые мокасины, заляпанные глиной. Когда с вязанкой дров пришли на Ренатову дачу, Матвей огляделся и разом всё понял про жизнь хозяина: веранда с безногим столом и битыми стёклами, пустая комната, заваленная пыльными газетами и журналами, ещё одна такая же — поменьше и погрязней, с продавленным диваном, тощий кот с фосфорическими голодными глазами, в закутке–кухне — газовая плита, во много слоёв заляпанная подгоревшим варевом, и наконец — большая жилая комната с облупившейся печкой и сотнями книг на полках и в стопках, рабочим столом с аккуратно разложенными листами бумаги, карандашами, ручками и элегантной, сверкающей хромом пишущей машинкой.
— Такой дом протопить тебе, знаешь, сколько дров надо? — грубовато сказал Матвей.
— Я как–то… привык… к холоду. Работается лучше… и вообще, извинился Ренат.
— Ты что, писатель?
— Не–ет, — засмеялся он, — я литературовед.
Матвей не мог серьёзно относиться к такой работе, она казалась ему не мужским делом, а баловством дамским. Раньше, в лётные голы, он бы посмеялся в открытую. Тогда он вовсе не считал нужным присматриваться к людям, делил их на мужчин и всех остальных: женщин, детей, стариков. У «остальных» были точно определённые функции: у одних — спать с мужчинами, рожать детей и вести хозяйство, у других — расти и учиться, у третьих доживать и помогать молодым. А мужчины, в свою очередь, делились на «шляп» и мужиков, то есть на тех, кто тусуется помаленьку при жизни, ловчит и бездельничает, и тех, кто эту самую жизнь на себе тянет. Картина была без полутонов, чёткой. И особенно чёткой от того, что, как в рамку, помещалась в решённые Матвеем сроки. Но рамка рассыпалась, и он стал приглядываться к людям: ведь оказалось, что среди них ещё долго, наверное, жить, и стоит, пожалуй, разобраться получше. По прежней мерке Ренат был стопроцентной «шляпой» и даже не просто «шляпой», а «шляпой с пёрышком», то есть находился на последней ступени мужского падения, донельзя приблизившись к бабам. Теперь же Матвей не спешил с оценкой. И мало–помалу, отвечая на вопросы, которые сам себе задавал, он ощутил, как растёт его симпатия к «шляпе» и меркнет ирония. «Трудяга или бездельник?» — спрашивал Матвей. Ну хорошо; пусть работа его непонятная и бестолковая, но ведь трудяга! И не просто, а фанат. Готов не есть, не пить, а целыми сутками вкалывать. Если бы все так ишачили, давно уже коммунизм был. Ловчила? Смешно сказать достаточно взглянуть на его логово. Балбес? Ну уж нет — в своём деле дока, ас. А вот похитрей вопрос, наивный на вид, из драчливого детства: пойдёшь с ним в разведку? И ответ вполне взрослый: насчёт разведки не знаю, а вот то, что этому парню верить можно — факт. Такие не продаются и не покупаются, как их ни заманивай, ни стращай. Матвей, конечно, не мог доказать этого, но он почувствовал в Ренате упрямую силу его предков степных наездников, — и тогда привязался к нему. Может быть, потому, что он, Матвей, бросив вызов неведомым мрачным силам, тоже должен был быть настырным фанатом, но порой ощущал в себе и неуверенность, и робость, и даже страх, и даже подлое желаньице плюнуть на всё и на всех, завалиться на диванчик у телевизора и жить вот так — бездумно и безбедно. Но он приходил в пустой промёрзший Ренатов дом, видел этого чёрта упрямого в ватнике на майку, замотанного в драный шарф, в очочках, еле сидящих на плоском носу, и Матвею делалось стыдно, он называл себя «шляпой с пёрышком», рохлей, слюнтяем, тюфяком, штафиркой, бабой, и в нём подымалась тогда та самая злость, которая города берёт. Ведь смелость это так, для стороннего глаза, а на самом деле города берут от обиды и злости.