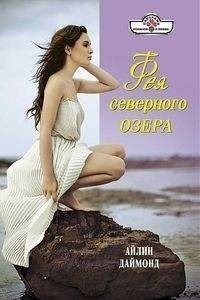Мор Йокаи - Похождения авантюриста Гуго фон Хабенихта
Однажды вечером развлекались мы все тем же привычным способом: супруги сидели у камина, я с фолиантом — чуть поодаль, за столиком для чтения. Когда святая Женевьева вторично спасла Париж — на сей раз от голодной смерти, — князь ощутил такую жажду, что немедленно потребовал свой напиток, и княгиня тотчас приготовила.
Однако на сей раз, выхлебав горячее питье, князь не потянулся, как обычно, всеми членами, не вскочил, похваляясь своей удалью и бодростью: тело его обмякло, ноги задергались, словно он во сне упражнялся за ткацким станком, голова откинулась, и он громко захрапел.
Княгиня несколько мгновений смотрела на него с невыразимой злостью, потом ударом ноги отбросила стоявший передо мной читальный столик — тяжелая книга грохнулась на пол. Но спящий не проснулся.
И прежде чем я успел прийти в себя от изумления, она бросилась ко мне на колени, обняла за шею, лихорадочно приговаривая: «Ты вернулся! Значит, любишь меня?» — и тотчас поцелуями зажала мне рот, не давая возможности ответить.
(— Ничего не понимаю, — нахмурился советник.
— Зато я понимаю, — улыбнулся князь. — Однако не будем прерывать на самом интересном месте. Продолжай, reus, свое признание. Что случилось дальше?)
Вряд ли я могу передать. Это было как наваждение, как самый невероятный сон. Словно смешались ад и рай, ангелы и демоны бешено закрутили меня в гибельном блаженстве. Словно попал я в рабство всем радостям и кошмарам, сколько их ни есть на земле. Даже сейчас, с палаческой веревкой на шее, оплакивая грешную свою душу, вспоминаю я тот миг. И если спросят меня, что бы ты сделал, если бы прекрасная, недоступно холодная дама тигрицей, огненной фурией снова метнулась бы тебе на колени целовать, душить, терзать… и все это рядом с перевернутым читальным столиком, священной книгой под ногами и мирно храпящим супругом — что бы ты сделал? То же самое, клянусь!
Хоть и кружилась голова, я точно знал — каждый поцелуй, что я принимаю и отдаю, есть воровство, грабеж, кощунство: я обманул хлебосольного хозяина, чьим гостеприимством пользуюсь, обобрал неизвестного дворянина, чье имя теперь ношу, ввел в заблуждение женщину, признавшую во мне своего возлюбленного, изменил несчастной, ни в чем не повинной Маде. Предал мужчину и женщину, предал бога и черта одновременно. И все же, коли спросят, как бы я поступил, если бы все повторилось снова, отвечу: точно так же, даже поплатись я за это жизнью!
(— Закоренелый злодей, — не выдержал советник.
— Да полно вам, — одернул его князь. — Ведь не он первый начал. Женщина согрешила.)
Грех был великий, я и сам понимаю. Тяжким камнем лег он на душу. Насилу я мог дождаться, пока отец-исповедник даст мне отпущение. Ведь прекрасная Персида прошептала мне в тот самозабвенный час:
— Зденек, ради меня ты отправился в Святую землю. А смог бы ради меня пойти и в преисподнюю?
Я принял это за риторический вопрос и сказал: «Еще бы!»
— Ну, если ты ради меня готов на вечные муки, — продолжала Персида, — остерегись признаваться на исповеди в этом грехе, ведь он наполовину на моей совести. Исповеднику, священнику, святому образу в алтаре — никому не говори, а то произойдет большое несчастье.
Угнетенный сознанием вины, я бродил по дворцу. Словно олень, раненный стрелой.
Снотворное питье, подсунутое старому князю, действовало надежно.
А я отменно выучился играть роль Зденека, чьи кости, верно, тлели где-нибудь в песках Палестины и чья душа горела, верно, в чистилище за грехи, совершенные после смерти.
Однако старый князь был очень религиозен. Он непреклонно требовал от своих придворных исповедоваться каждый праздник в его капелле и под его княжеским наблюдением. Сидящего в исповедальне священника никто не видел — показывалась только рука с деревянным жезлом, коим прикасалась к темени в знак отпущения.
Сперва исповедовался князь, потом прекрасная Персида. Я — друг дома — следовал третьим. Усевшись на исповедальную скамью, я первым подверг исповеди священника:
— Скажи, патер, а ты, часом, не разболтаешь мои секреты?
— Что за нелепость, сын мой! Тайна исповеди свята и нерушима.
— А если все-таки проговоришься?
— Тогда меня сожгут на костре.
— Разве не случалось, что исповедник разглашал поверенную ему тайну?
— Никогда такого не случалось. Даже если убийца сознается священнику в своем преступлении и священник проведает, что вместо настоящего убийцы повесят невиновного — даже тогда исповедник не имеет права назвать его имя правосудию. Много тому примеров, когда святые отцы скорее готовы были претерпеть мученическую смерть, нежели выдать тайну власть имущим, которые, как известно, весьма до этого охочи. Ты, очевидно, слышал историю достославного Яна Непомука.
— Да. Но равен ли ты святостью Яну Непомуку?
— Я связан столь же священной клятвой перед богом.
— Мне этого мало. Поклянись и передо мною.
Патеру пришлось торжественно произнесть «да покарай меня господь», чтобы я не сомневался в сохранности моих секретов.
И тогда развернул я свой обширный свиток грехов. Исповедался во всех прегрешениях вплоть до последнего. А вот самый последний — касательно прекрасной Персиды — утаил. Помнил, о чем она умоляла — ничего не говорить даже священнику. Но увы! Из общего собрания грехов всего труднее сокрыть именно тот, что касается любви и прекрасных женщин. Ведь он не дает покоя: рогами пронзает грешнику бока и раздирает когтями, просясь наружу; у него сто языков, и каждый норовит проговориться. Это грех, которому не терпится похвастаться.
С трудом поборол я острое искушение и прекратил исповедь. Но тут сам священник принялся подзуживать меня:
— Подумай, сын мой, во всем ли ты признался? Может, еще какой грех на душе лежит? Не стыдись откровенности. Такой молодой, видный рыцарь — возможно ль, чтоб ты здесь жидкой похлебкой пробавлялся! Ваше дело известное — рот разевать на все, что плохо лежит. Сколько ни есть Красоток в городе — каждая находит, в чем признаться, сколько бравых молодцев ни сыщешь — все грешны на сей счет. Выходит, только ты один святой? Поразмысли; сокроешь хоть единый грех — будешь точно так же гореть в аду, как если б свершил девятьсот девяносто девять прегрешений.
Стращал и стращал он меня адским пламенем, пока не раскрыл я секреты прекрасной Персиды, о чем должно было молчать при любых обстоятельствах. Уж лучше было бы сдержать мне свое обещание да прямехонько и отправиться в адскую пасть, которую исповедник столь искусно мне описал.
Что и говорить, крылаты грехи амурные, их в клетке не удержишь.