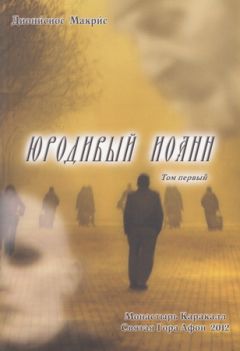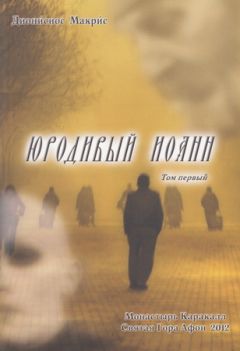Брет Гарт - Сюзи
Судья лежал среди метелок овсюга справа от дороги; он был мертв и почти неузнаваем. Его одежда — то, что от нее осталось, — была частично вывернута наизнанку, плечи, шея и лицо представляли собой бесформенную массу засохшей грязи и тряпья, напоминавшую покровы мумии. Его левый сапог исчез. Крупное тело обмякло и стало каким-то дряблым — казалось, его поддерживают не кости, а только заскорузлые от глины лохмотья.
Кларенс внезапно поднял голову и посмотрел на стоящих вокруг вакеро. Один из них уже поскакал прочь. Кларенс тут же взлетел на своего коня, пришпорил его, выхватил револьвер и выстрелил, целясь над головой удалявшегося всадника. Тот обернулся, увидел, кто за ним гонится, и натянул поводья.
— Вернись! — приказал Кларенс. — Или в следующий раз я выстрелю не в воздух.
— Я хотел только известить сеньору, — ответил вакеро, пожимая плечами и вымученно улыбаясь.
— Это я сделаю сам, — угрюмо ответил Кларенс, возвращаясь с ним к безмолвному кругу.
Затем, обведя их взглядом, он сказал медленно, со жгучей и невеселой иронией:
— Так вот, достойные господа, рыцари, сражающиеся с быками, неустрашимые охотники на мустангов, я намерен сообщить вам, что мистер Пейтон был убит и что, если только его убийца еще не в аду, я разыщу его и рассчитаюсь с ним. Отлично! Я вижу, вы меня поняли. А теперь поднимите тело — вы двое беритесь за плечи, а вы двое — за ноги. Ваших лошадей пусть ведут сзади — я приказываю вам отнести вашего хозяина в его дом на руках и пешком. Вперед! Вернемся к коралю боковой тропой. Если кто-нибудь ослушается или отъедет в сторону, то… — И он угрожающе поднял револьвер.
Если перемена в мертвеце, которого они несли, была устрашающей, то не менее явной и зловещей показалась им перемена, происшедшая за последние несколько минут в том, кто обратился к ним с этой речью. Перед ними был уже не прежний юный Кларенс, а суровый, безвременно постаревший, грозный мститель с осунувшимся лицом и ввалившимися глазами; под каштановыми усами поблескивали зубы, а из полураскрытых посеревших губ вырывалось учащенное дыхание.
Процессия медленно двигалась вперед, но двое вакеро, ведшие лошадей, все же немного отстали.
— Матерь божья! Кто этот волчонок? — спросил Мануэль.
— Ш-ш-ш! Разве ты не слышал? — в ужасе прошептал его товарищ. — Это сын Хэмилтона Бранта, убийцы, дуэлянта — того, кого расстреляли в Соноре. — Он быстро перекрестился. — Иисус-Мария! Пусть остерегутся виновные, ведь в нем течет кровь его отца!
ГЛАВА VII
Неизвестно, о чем еще говорил Кларенс со слугами Пейтона, ибо они сохранили это в тайне. Все же остальные объясняли гибель судьи Пейтона тем, что полуобъезженный мустанг сбросил своего седока и протащил его по земле, а врач, спешно призванный из Санта-Инес после того, как труп был перенесен в кораль и освобожден от гнусной оболочки, объяснил, что у судьи была сломана шея и он скончался мгновенно. Вскоре иное расследование было сочтено излишним.
По решению Кларенса сообщить страшную весть миссис Пейтон выпала Мэри, и испуганная девушка была до того поражена переменой в нем и новой властностью его манер, что не только не отказалась, но даже не сразу поняла, какое ужасное несчастье их постигло. Когда первое оцепенение миновало, миссис Пейтон прониклась странным лихорадочным волнением, порождаемым необходимостью что-то предпринимать и что-то делать, а затем впала в то безучастное спокойствие, в котором посторонние так часто и несправедливо усматривают бессердечие, равнодушие или притворство. Но и эта сама смерть несла с собой странную компенсацию, как часто бывает при внезапных катастрофах, когда рушится неустроенная жизнь, смутные предположения невольно воплощаются в действительность, отметаются прежние привычки и традиции и рвутся полуосознанные узы. Миссис Пейтон, хоть это и не смягчало ее горя и не бросало тени на ее чувствительность, тем не менее испытывала облегчение при мысли, что отныне она становится полноправной опекуншей Сюзи, свободной устраивать их новую жизнь так, как ей покажется наилучшим, и что она может избавиться от этого дома, который в отсутствие Сюзи всегда был ей тягостен и который Сюзи не выносила. Теперь она могла сама, не слушая ничьих советов и не встречая противодействия, тут же решить вопрос об отношениях Кларенса и ее дочери. У нее в восточных штатах остался брат, и она собиралась вызвать его и поручить ему устройство своих имущественных дел. Вот так заботы о живых отвлекали ее в то время, когда присутствие покойника наполняло благоговейным ужасом притихший дом; вот чем были заняты ее мысли, когда она стояла рядом с гробом и поправляла цветы на неподвижной груди, которую уже не могли тронуть эти суетные мелочи; и о том же продолжала она думать в уединении своей сумрачной комнаты.
В отличие от миссис Пейтон Сюзи вела себя точь-в-точь как положено при подобных обстоятельствах и являла собой образец убитой горем дочери. Когда в дом съехались соболезнующие друзья из Сан-Франциско и немногочисленные соседи, именно она трогательно живописала бесконечную доброту покойного по отношению к ней и свою собственную вечную к нему любовь, именно она вспоминала, его слова, которые можно было истолковать как зловещие предзнаменования, и собственные свои тревожные предчувствия, рожденные ее неизменной дочерней тревогой за него; именно она в тот роковой день поспешила домой, охваченная смутным страхом перед неведомым надвигающимся несчастьем; именно она рисовала Пейтона нежным, необыкновенно снисходительным отцом — портрет, в котором Мэри Роджерс не сумела узнать оригинала и который живо напомнил Кларенсу ее детские рассказы о том, как она якобы присутствовала при нападении индейцев на фургон ее родителей. Я отнюдь не хочу сказать, что Сюзи была совсем неискренна и просто разыгрывала роль; порой у нее начинались легкие истерические припадки, вызванные вторжением в ее однообразную жизнь этого подлинно трагического события, а также вниманием к ней всех знакомых, интересом к ее страданиям, как единственной дочери, и новым положением наследницы ранчо Роблес. Если слезы ее и могли показаться дешевыми, они, во всяком случае, были вполне настоящими и туманили ее фиалковые глаза и заставляли краснеть ее хорошенькие веки столь же успешно, как если бы их вырвало у нее самое безысходное горе. Черное платье придавало ее фигуре величавое достоинство, а нежному личику — благородную бледность печали. Даже Кларенс был растроган, хотя после взрыва бешеного гнева у тела своего старинного друга и покровителя он теперь постоянно пребывал в состоянии мрачной подавленности и рассеянности.