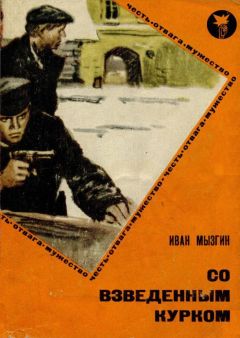Иван Мызгин - Со взведенным курком
— Не подох еще? Вставай!
Я с усилием приподнялся и сел, прислонившись к стене. Городовой вышел, даже не прихлопнув дверь. Я посмотрел на свои руки. Они тоже были мокрые и в крови. С натугой попытался вспомнить, что же со мной было. Снова появился городовой с ведром воды и тряпкой. Тряпку он бросил на мокрый пол.
— Вставай! — снова приказал он. — Умойся. Сейчас пойдешь на допрос.
Хотел подняться на ноги — все тело болело.
— Не могу, — сказал я. — Пособи.
Полицейский схватил меня под мышки, поднатужившись, поднял и поставил у стены.
Я вытер тряпкой лицо. Ощупал голову. Темя вспухло. От холодной воды мне стало немного легче. Хотел сесть на нары, но городовой грубо рванул меня за рукав и толкнул к двери.
И вот я снова на втором этаже перед палачом-приставом. Снова те же вопросы: «Сколько вас в Златоусте? Сколько в Уфе? Кто?»
— Не будешь отвечать — повесят, — пообещал мне пристав. — Тебя обвиняют в экспроприациях. Если все расскажешь, сегодня же выпустим, денег дадим, поможем домой добраться.
«Эх, — подумал я, — дурак ты, дурак!.. С рабочим-боевиком разговариваешь, а купить его хочешь?!» И я тянул прежнюю линию — разыгрывал простачка, случайно попавшего под арест.
— Зря вы меня бьете, ваше благородие. За кого-то другого меня принимаете. Я ведь из деревни. Ничего не знаю, ничегошеньки не понимаю. — И я захныкал, утирая глаза мокрым рукавом.
— Сволочь! Негодяй! Мерзавец, — истерически завизжал пристав. — Думаешь, если на сей раз тебя пожалели, то и еще пощадим?! Увести его! С глаз моих долой!
Городовой отвел меня в тот же подвал, но только почему-то в другую камеру — более светлую и сухую. Я улегся на нары и принялся размышлять. Чем кончится мое сидение здесь? Выполнят палачи свою угрозу или просто пугают? Кто их знает… Скольких моих товарищей замучили в полицейских участках без суда и следствия…
И я твердо решил: если палачи опять захотят меня мучить, кинусь на них, сорву с кого-нибудь оружие, не выйдет — буду драться голыми руками. Пускай убьют! Лучше погибну в борьбе, чем вот так жалко, не сопротивляясь, как какой-нибудь толстовец, а не боевик.
Так я решил и от одного этого сразу почувствовал себя куда лучше.
Растворилась дверь. Полицейский принес кружку теплой воды и кусок ржаного хлеба. Только тут я почувствовал волчий голод. Заморил червяка, лег и уснул.
Так продержали меня в участке еще четыре дня. Допроса больше не устраивали, словно пристав каким-то шестым чувством пронюхал о моей решимости сопротивляться во что бы то ни стало.
А на воле в это время происходило вот что.
Как только в дружине узнали о моем аресте, сейчас же стали решать, как мне помочь. В это время в Златоусте был Костя Мячин. Он и взялся за дело.
В каталажку, где меня держали, сажали и за разные мелкие провинности. Попадали туда разные пьяные дебоширы. А у златоустовских боевиков был на примете один бывший матрос, горький пьяница и буян, которого то и дело бросали в холодную. Там ему давали проспаться, награждали полдюжиной тумаков и выкидывали за ворота. Этого пьянчужку боевики иной раз без его ведома использовали для кое-каких разведывательных целей. Пригодился он и на сей раз. Моряку зашили в надежное место записку, дали денег на выпивку и попросили его, как только он окажется в каталажке, выбрать удобную минуту и передать записку мне.
Сначала все шло как по писаному: парень здорово наклюкался, как следует набуянил, и его забрали в участок. Но тут он с пьяных глаз перестарался — вытащил записку рано. Дежурный городовой заметил, отобрал бумажку и здорово отколотил пьянчугу. Стукнули пару раз и меня — без внешнего повода. В тот день я так и не понял, за что.
А на следующее утро меня под сильным конвоем отправили в тюрьму.
Неудача с матросом не обескуражила друзей. Через одного сочувствовавшего нам солдата из тюремной стражи они наладили со мной переписку, сообщили план побега и передали с воли пять пилок.
В ночь с 26 на 27 мая, к двенадцати часам, я должен был выпилить оконную решетку и выбраться в тюремной двор. Как раз в то время на посту предстояло находиться нашему солдату. Стена тюрьмы в этом месте была рядом с жилыми домами, и ребята хотели с крыши втянуть меня на стену с помощью веревки.
До ночи побега оставалось еще несколько суток. Мучительные это были дни! Наконец двадцать шестое… Сегодня либо воля, либо…
Но мои планы рухнули в то же утро.
В десять утра распахнулась со скрипом дверь камеры. На пороге стоял надзиратель:
— Выходи! В контору!
Екнуло сердце.
В тюремной конторе уже ждал помощник начальника тюрьмы.
— В кузницу, — распорядился он, роясь в ящике письменного стола и не поднимая глаз ни на меня, ни на надзирателей. — Пусть закуют в ножные кандалы.
Предательство? Или простое совпадение?
Но так или иначе — побегу пока что не бывать…
На несколько минут меня охватило чувство опустошенности и безразличия, но только на несколько минут. «Нет! — сказал я себе. — Держись, Петруська! Покуда ты сам не сдался, никто не в силах тебя одолеть. Держись! Не сегодня — так завтра, не завтра — так через неделю, через месяц ты вырвешься из клетки. На волю! К друзьям».
Надзиратели вывели меня из конторы — и вдруг застыли по стойке «смирно», приложив руку к козырьку. Навстречу нам шагал «сам» — начальник Златоустовской тюрьмы собственной персоной.
— Кто такой? — кивнул он на меня.
Старший надзиратель доложил.
— Куда ведете?
— Так что по приказанию господина помощника начальника в кузню. Заковать в ножные кандалы.
— Не надо, не надо, — махнул рукой начальник. — За ним конвой пришел. На допрос его вызывают к уездному исправнику.
Так полчаса судьба играла со мной в «кошки-мышки». Снова подвели к крыльцу конторы. Сказали: «Подожди». Жду.
В это время во дворе гуляли политические, среди них и боевики. Некоторые меня знали.
Мне удалось шепнуть одному, что снова иду в участок — на допрос к исправнику. На всякий случай ребята тут же завернули в тряпицу кусок хлеба и сунули мне. Надзиратели не мешали.
На сей раз сопровождать меня отрядили чуть не взвод конных стражников, целую кучу пеших полицейских. Этот «почетный эскорт» и доставил меня в уже хорошо знакомый участок.
Здесь необходимо подробнее описать этот дом.
Как и многие здания в Златоусте, расположенном в неширокой долине меж гор, он был наполовину «вкопан» в склон горы, которая «съедала» с тыловой стороны его первый этаж. Парадный подъезд канцелярии выходил на улицу, другой вход был со двора. Оба они вели в прихожую. За прихожей следовала проходная комната — писарская — и затем кабинет пристава. Таким образом, прихожая, собственно канцелярия и кабинет составляли небольшую анфиладу.