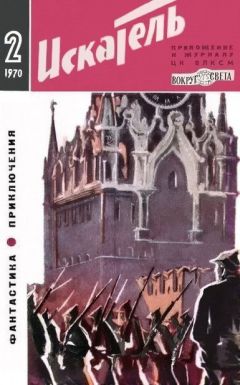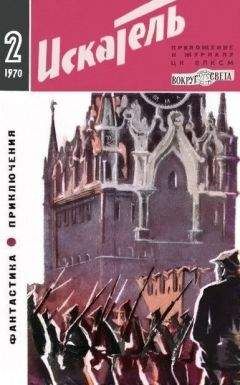Александр Казарновский - Поле боя при лунном свете
За двадцать дней до. 28 севана. (8 июня). 12:30
Со мной всё в порядке. Больной жить будет. А теперь звонить, звонить и еще раз звонить. Теперь мои звонки и приезды – единственное, что хотя бы немножко держит парня на плаву в духовном смысле. Что же касается меня, то понять того, кто, живя в Израиле, звонит своему ребенку в Москву, может только тот, что, живя в Израиле, звонит своему ребенку в Москву. А если вы хотите испытать, что это такое, попросите знакомого хирурга вырезать у вас сердце и отправить куда-нибудь на полюс. А сами поезжайте на экватор.
Я схватил телефонную трубку с антенной. Золотые буквы «Panasonic» глядели на меня с черной глади. Ноль сто двадцать семь ноль девяносто пять два три два один ноль пять три. Гудок. Еще гудок.
– Алло?
– Галочка, привет.
Молчание. Затем:
– Да, здравствуй.
– Как дела?
– Спасибо.
– «Спасибо, хорошо» или «спасибо, плохо».
– Спасибо.
Что с ней вдруг случилось? Ладно, перейдем к следующему пункту повестки дня.
– Мишу позови, пожалуйста.
– Его нет дома. И вообще, знаешь, больше сюда не звони.
– Как нет? У вас уже четыре! Должен был из школы придти.
В этот момент я сообразил, что сейчас лето, и в школу он не ходит.
– Его нет дома.
Гудки. Вот это да! В самые худшие времена нашего разлада она со мной так не разговаривала.
В этот момент Гоша, выждав, пока я плюхнусь в изнеможении на стул, подскочил ко мне, положил на плечи свои большие лапы, и начал вылизывать лицо. Его горячее дыхание неожиданно подняло мне настроение.
– Не переживай – говорил он мне глазами. – Всё будет хорошо. Я тебя люблю. Я тебя не оставлю. Я понимаю, тебе этого не достаточно, но чем богаты, тем и рады.
Я погладил его, он прижался ко мне, и вдруг мне показалось, что бурая пакость – нечто вроде нарыва – которую вырезали ему из пасти неделю назад, вновь появилась. Я сразу вспомнил, как стоял у металлического стола, гладя стонущее животное, а врач кромсала бедняжке десны, как она вколола ему еще порцию какого-то зелья, и он перестал чувствовать боль, зато ее почувствовал я, когда Гошке каленым прутом прижигали нарывы на губах, и ветеринарный кабинет наполнился запахом паленой плоти, и от его рта ко мне тянулись змейки дыма, и вид у меня был такой, что милейшая Инна, доктор Айболит в юбке, осведомилась, не хлопнусь ли я рядом с Гошей, потому как возиться с двумя ей было не с руки. А я ничего не отвечал, гладил Гошку и утешал: «Ну, мой милый, ну мой сладкий, ну потерпи немного!» Потом он лежал на траве возле Инниного кабинета и не мог подняться, пока не отошел наркоз.
Теперь вот он меня молча утешал: «Ну, мой милый, ну мой сладкий, ну потерпи немного!»
И все же – что случилось с Галкой? И в голосе какое-то отчаянье, как будто она не меня гонит, а самое себя. Ладно, позвоню в понедельник днем, когда она будет на работе. Поговорю с Михаилом Романовичем, может, всё и выяснится.
Мне безумно захотелось курить. Тупо повертев некоторое время в руках пустую пачку из-под «Эл-эм лайт», я вдруг осознал, что магазин закрыт, а что я до шабата курить буду – неизвестно. Я выскочил на улице в надежде у кого-нибудь стрельнуть, впрочем, почти беспочвенной, потому что на все поселение курят полтора человека. И тут… Знаете, когда моему сыну было три года, он по аналогии с «как назло» говорил «как на добро». Так вот «как на добро» Шалом в своей «Субару».
– Шалом, есть сигарета?
Шалом, под моим чутким руководством изучающий русский язык, решает, что сигарету я должен отработать, и вообще сейчас самое время потренировать диалогическую речь.
– Ты просишь сыгарэту.
– Да.
– Ты хочешь курыт.
– Да, да, хочу! (Угостишь ты меня, наконец?)
– Ты отшен хочеш курыт. (Шалом в восторге от своих языковых познаний.)
– Очень, очень хочу!
– Нэту!
Я плюнул и вернулся домой. Настроение окончательно испортилось, к тому же вспомнились последние разговоры с сыном. И в мой приезд, и по телефону. Нехорошие разговоры. Рассказы взахлеб о школе. Постоянное «У нас в России», «Вы там в своем Израиле…»
А когда я прокряхтел – «Но ведь и ты два года назад собирался в Израиль», ох какое молчание наступило на целую минуту, в конце которой он промямлил: «Да».
С тех пор это «да» и есть та ниточка, которая связывает меня с жизнью. Что ж, как сказали авторы бессмертного фильма, доживем до понедельника.
* * *Понедельник, как известно, начинается в субботу. А суббота, что гораздо менее известно, начинается с пятничной минхи – дневной молитвы. На минху я пошел не в центральную ишувскую синагогу, а в маленькую, которая поближе к дому.
Там нас ждало новшество. К деревянным лакированным планкам, бегущим вдоль белых стен, были привинчены белые пластмассовые зажимы с пружинами, рассчитанные как раз на то, чтобы прихватить дуло «эм-шестнадцать». Теперь всем, у кого он есть, а есть он решительно у всех, за исключением тех, кто ходит с тяжеленным, хотя и более компактным «узи», не было необходимости класть эту бандуру на пол, так что пол начинал походить на памятную с дней моего советского детства школьную площадку для сбора металлолома. Достаточно было просто прислонить оружие к стене, прихватив дуло этим самым зажимом. Что я и сделал.
Минха прошла как-то на автомате, извините за игру слов, мои мысли вконец распоясались, мозги были не здесь, а в Москве.
Шалом, стоящий недалеко от меня, напротив, весь ушел в молитву. Он, зажмурив глаза, морщился, словно от сильной боли и, шевеля губами, рассказывал Хозяину обо всем, что его переполняло.
Затем мы запели «Едит нефеш» – объяснение еврея в любви к Б-гу.
«Любовью к Тебе
душа моя вновь полна,
Пусть исцелится
дыханьем твоим она.
Светоч Вселенной,
душу мою излечи.
Пусть на нее
прольются твои лучи»
Когда дошло до «Леха доди», меня ждал приятный сюрприз – ее запели на ту нечасто звучащую чарующую мелодию, под которую прошло мое пятнадцатилетней давности возвращение к своему Б-гу, к своему народу, к себе. Я прикрыл глаза и улетел в ту квартиру на «Кировской», где за субботним столом впервые ее услышал. Исчезли белые стены синагоги, вместо них развернулись темно-красные обои, по которым ползли золотые змейки узора. Уплыла из-под ног разлинованная крапчатая плитка пола, к моим подошвам прижался паркет, по которому рассыпались блики от люстры и торшера, и рядом со мной вырос кудрявый беленький Михаил Романыч с вечно вытаращенными удивленными глазами.
«Леха доди ликрат кала,
Пеней шабат некабела»
И к тому времени, как началась собственно вечерняя молитва, я уже окончательно отрешился и воспарил. Я стоял, шепча: «Ты освятил Седьмой День ради Имени Своего; в нем цель создания неба и земли. Благословил его более других дней недели и освятил больше, чем другие времена» Окна были распахнуты, и горный воздух, сквозняком кружившийся под потолком синагоги, холодным крылом трепал мне затылок и плечи.