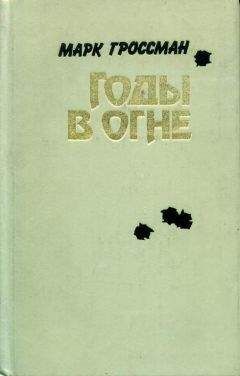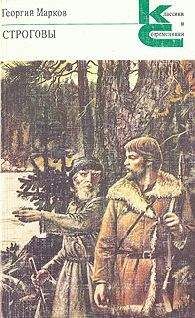Марк Гроссман - Камень-обманка
Затем вытащил из шинели наган, взвел курок и резко приказал, кивая на тропу:
— Вперед, адмирал!
У Колчака поплыли в глазах багровые круги, сердце рванулось к горлу, и липкий, будто кровь, пот потек из-под шапки. Он отчетливо знал, как расстреливали красных в «колчакии», с ними долго не возились, и был убежден: конвоиры теперь отплатят тем же и без особых церемоний выпалят ему в затылок.
«Всё… — почти в беспамятстве подумал он. — Конец».
Адмирал ссутулился, втянул голову в плечи и быстро, чуть ли не бегом зашагал по тропе, моля бога, чтоб он не лишил его присутствия духа в эти последние секунды жизни. Однако прошло мгновение, второе, а выстрелов не было.
«Может, осечка, — тоскливо подумал Колчак. — Замерзло масло в оружии».
Он оглянулся. За ним шел Нестеров, и его потрепанная шинель гулко хлопала на ветру. Дальше угадывалась тучная фигура Пепеляева, и в напряженной тишине слышались не то молитвы, не то всхлипывания бывшего премьера.
Противоположный берег Ангары был виден издалека. Оттуда, прорываясь через густые хлопья тумана, тянулись к середине реки толстые пучки огней. Адмирал понял: фары автомобилей. Его ждут.
Вскоре Колчак и Нестеров выбрались на берег.
Неподалеку от прогимназии, небольшого двухэтажного дома, выходящего на Набережную и к проезду бывшего понтонного моста, стояло несколько машин. Приплясывали, пытаясь согреться, стрелки и кавалеристы. Их было, вероятно, около двухсот человек, может, меньше, и Колчак с озлоблением подумал, что здесь хватило бы одной-двух батарей, чтобы сделать из них кровавое месиво. Но — увы! — у него уже давно не было под рукой ни пушек, ни надежных людей.
В громоздкий, резко пахнущий бензином и маслом «Чандлер» сели Колчак и Нестеров, в следующий за ними «Кадиллак» — Пепеляев, Тимирева и начальник конвоя.
Шофер Нестерова Иван Калашников круто взял с места, и машины, сопровождаемые конницей, направились к окраине города.
В тюрьме Колчака и Пепеляева развели в одиночки. Тимирева наотрез отказалась уйти в город, и ее тоже пришлось отвести в камеру.
Пепеляев вел себя отвратительно. По дороге в контору тюрьмы он всхлипывал, у него прыгала нижняя челюсть, тряслись щеки.
— Извольте держаться прилично! — выкрикнул злым фальцетом Колчак. — Не забывайте: вы сын и брат генералов!
— Отстаньте от меня! — в свою очередь взвизгнул Пепеляев.
Одиночка, куда привели Колчака, была мрачная и холодная комната, но в этом склепе все-таки можно было думать и готовиться к допросам.
Пока адмирал сидел в тюрьме и давал показания, в Иркутске что-то резко изменилось. Чрезвычайную следственную комиссию по его делу, организованную еще Политцентром и сохранившую свой состав после того, как эсеры и меньшевики вынуждены были отдать власть коммунистам, возглавил теперь человек, на пощаду которого Колчак не мог рассчитывать.
Председатель Иркутской губернской ЧК Чудновский лишь недавно выбрался из той же тюрьмы, где теперь сидел адмирал. Коммунист чудом избежал смерти. Он был вполне корректен на допросах, но эта внешняя учтивость только подчеркивала его холодную ярость и непримиримость к врагу.
Колчаку становилось все труднее уходить от ответов на жесткие прямые вопросы.
Раньше правые эсеры Алексеевский и Лукьянчиков, меньшевик Денике расспрашивали Колчака о его далеком и безобидном прошлом, выясняли мельчайшие детали отношений с государем, князьями и послами. У следователей, насколько мог судить арестованный, был разработан огромный перечень вопросов, и можно было надеяться, что к самому страшному — к «колчаковщине» — они приблизятся не скоро. А там, даст бог, спохватятся союзники или подойдет Каппель, уходящий от красных в Забайкалье и на Дальний Восток.
До появления Чудновского адмирал отвечал на допросах размеренными длинными фразами, которые должны были свидетельствовать о его самообладании в часы последних испытаний. Эта маска спокойствия стоила Колчаку огромных усилий. Он был издерган, резок, вспыльчив, и все это следовало прятать в себе.
Чудновский и его товарищ по партии Попов хорошо знали, о чем спрашивать экс-правителя. Они задавали вопросы о массовых расстрелах, об уничтожении заложников, уличали адмирала во лжи.
Где-то, кажется, этажом выше сидит в одиночке Пепеляев. Колчак вспомнил грузную, расплывшуюся фигуру премьера, его страх и бормотание в момент ареста — и громко выругался. Ведь старый кадет, черт бы их взял, этих штафирок, эти заячьи души!
Но тут же зло усмехнулся, вспомнив, что именно старший Пепеляев был лидером партии, предложившей ему, Колчаку, пост диктатора. Да и помимо того адмирал немало обязан Виктору Николаевичу, постоянно старавшемуся «приблизить верховного правителя к простому народу».
Впрочем, долг не остался без платежа. Тотчас после переворота, сделавшего Колчака диктатором, Виктор Пепеляев стал директором департамента милиции, вскоре — товарищем министра внутренних дел, министром. Все эти долгие месяцы он был членом совета верховного правителя. И вот теперь, наконец, Виктор Николаевич — премьер правительства. Он, Александр Васильевич, заплатил этому недалекому и трусливому человеку доверием за доверие.
Правда, назначение это состоялось в дни, когда армия и правительство бежали из Омска. «Доверие»! Оно явно смахивало на желание спихнуть с себя хотя бы часть власти и ответственность перед историей.
Колчак передал тогда Пепеляеву «Грамоту», подписанную в Новониколаевске[9] двадцать третьего ноября минувшего года. Адмирал знал ее всю, от первого до последнего слова, и, точно издеваясь над собой, повторял сейчас, иронически растягивая слова:
«Виктор Николаевич. Признав необходимым в тяжелых условиях, переживаемых страной, образование власти гражданской, твердой в стремлении к водворению правопорядка и проникнутой единой волей к борьбе с большевизмом до окончательного его искоренения и в этих целях внутренне объединенной, зная вашу несокрушимую энергию, стойкость в проведении мероприятий истинно государственных, я призвал вас на пост председателя Совета министров…»
Колчак усмехнулся. «Воля… энергия… стойкость…» Эта туша, бормотавшая по дороге в тюрьму что-то о своем примирении с Советской властью и жалко глядевшая на своих конвоиров, — это «воля» и «стойкость»?!
Им придется умирать вместе, им — совершенно непохожим друг на друга людям. На одно мгновение он представил себе Пепеляева — очки или пенсне, чиновничьи усики, парикмахерская точность пробора — и подумал о том, что этот ничтожный человек находится сейчас, вероятно, в состоянии прострации.