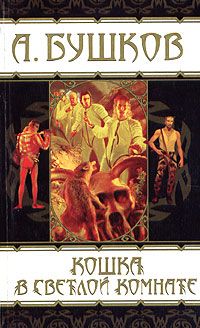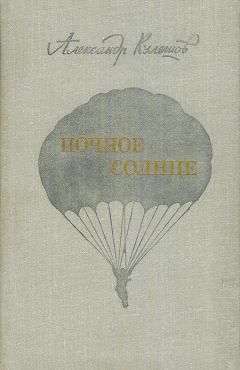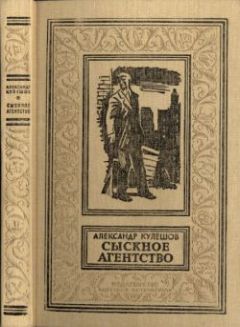Александр Кулешов - Пересечение
Об одном только я отца не спрашивал — о городе, в котором жил. Это был заповедник деда. Вот уж кто знал Москву! И не то, что вычитывал я в учебниках истории, а свое — «москвичовское», как он говорил. Какую же интересную страну открывал мне дед во время наших прогулок!
Он водил меня по улицам и переулкам, где прошло его детство, где он гулял, учился, дрался с мальчишками, ходил «на протырку» в кино. Вот уж беседы с дедом неизменно превращались в монологи. Я и сейчас в этом белом тумане вижу деда таким, как тогда, десять-пятнадцать лет назад: высокий, худой, серебристо-седой, в хорошо сшитом костюме с орденскими планками (у него было восемь орденов и шестнадцать медалей — я их знал наизусть). Мне-то дед казался очень старым, но все говорили, что ему никак не дашь его тогдашних, шестидесяти — шестидесяти пяти лет.
Только вот хромал дед. И опирался на палку. У него было одно тяжелое и три легких ранения. Я знал это по одной золотой и трем красным полоскам, которые он упрямо носил на лацкане пиджака. Когда отец, или мама, или еще кто-нибудь говорили, что уже никто их теперь не носит, дед сердился:
— Ну и пусть не носят! Мне стыдиться нечего. Я свою кровь не в кулачной драке проливал. И инвалид — не потому, что с пьяных глаз под трамвай попал. А какой я инвалид — пусть проверят молодые.
И действительно, дед был жутко сильный. У самых здоровых парней во дворе руку к столу припечатывал. Если ехали куда — не дай бог ему предложить чемодан поднести, он самый тяжелый, словно пушинку, поднимал. Идет, ковыляет со своей палкой и хоть бы что — любая тяжесть ему нипочем.
— Мы же пограничники! — смеется довольный. — Нам на плечах сорок тыщ километров границы держать! Попробуй одолей!
…Мы шагаем с дедом и Акбаром. Мне четырнадцать лет. Я знаю мой кусочек Москвы теперь не хуже деда. Здесь все — достопримечательности. Когда выходишь из нашего дома — а в нем жил знаменитый актер Вахтангов, — перейдя дорогу, упираешься в дом, где жил Луначарский, а чуть левей очень красивый дом, не дом — дворец, Итальянское посольство, а за углом — улица Щукина, там дом, где живут артисты Вахтанговского театра, и на нем тоже мемориальные доски — Щукина, Симонова, Веснина… Район великих людей. Может, когда-нибудь и на нашем доме будет мраморная доска: «Здесь жил маршал Жуков», не Георгий Константинович, а Андрей Андреевич, то есть я. Кто знает… Между прочим, Андреем Андреевичем зовут и моего отца и деда тоже. Такая вот в нашей семье традиция: всех первых сыновей называть Андреями. Так что мы три Андрея Андреевича. Братьев ни у меня, ни у отца нет. А глубже в династию я не заглядывал, кто был прадед — не знаю. Хоть и династия, но все-таки не графы или князья.
Великих людей по соседству жило немало. Ведь рядом Арбат, не тот, новый, с высоченными домами, а старый, но обновленный. Теперь дед ворчит:
— Мало им одного Вахтанговского театра, всю улицу в театральные декорации превратили, так и чудится — пальцем ткнешь в какой-нибудь фасад и проткнешь насквозь, папье-маше. Ну а фонари эти — колясок только да кринолинов не хватает.
Дед вспоминает «настоящий старый Арбат», когда по нему трамваи ходили, когда кино «Арс» и «Карнавал» работали, еще чего-то.
Теперь здесь сооружают Пушкинскую тропу.
А в переулках чего только нет — и разные посольства, и Московская пожарная часть, и дом патриарха всея Руси, и Дом ученых, и разные старинные особнячки, сохранившиеся небось еще со времен наполеоновского нашествия, и тихие дворики и маленькие скверики.
Если из нашего дома выйти налево, то, пройдя два квартала, выходишь на Кропоткинскую улицу. Тоже знаменитую, уж не помню чем. С нее попадаешь на Зубовскую площадь. Правда, теперь она называется площадью Шолохова, но об этом не знает ни один человек, даже почтальонша.
— Надо же, — сердится дед, — такой писатель, такая голова! А вот у наших отцов города голова пустая, чтоб Зубовскую площадь в Шолоховскую переименовать! Ну кто ж из москвичей это примет? Мало у нас новых проспектов, площадей, улиц, чтобы им названья давать!
Показал мне дед один примечательный дом на Садовом кольце, на нем тоже мемориальная доска, памяти генерала Карбышева. Постояли мы возле.
— Да, великий был человек, — вздыхает дед, — с большой буквы. Помню, слушал однажды в МГУ его лекцию «Линия Зигфрид — Линия Мажино». Жил как ученый, погиб как солдат. Его подвиг не забудется.
И, помню, спросил я тогда:
— Дед, а подвиг — что это?
Глупый вопрос — словно в пятом классе не читали мы Островского, Фадеева, не слышали про Корчагина, про краснодонцев. Так вот спросил, по инерции. Но дед отвечает очень серьезно, как цитату из энциклопедии приводит.
— Видишь ли, внук (он по имени меня никогда не зовет, может, чтобы со своим сыном, а моим отцом, не путать, только внуком кличет), видишь ли, подвиг — это такое умение нести солдатскую службу, когда отметка «отлично» уже недостаточна.
— А за подвиг всегда награду дают? Орден? (Про себя думаю, вырасту, уж я подвиг совершу, а лучше несколько, вон у деда сколько наград — двадцать четыре целых, значит, двадцать четыре подвига.)
— Не всегда, — он неожиданно говорит, — не всегда, внук.
— Почему? — спрашиваю.
— Ну, как тебе сказать, почему. Иной раз и сам солдат не знает, что подвиг совершил, а иной раз начальство о том не ведает. Да всех и не наградишь — орденов не хватит. На войне каждый день каждый наш солдат совершал подвиг, то есть службу нес как положено. За что ж награждать? Он свое дело делал как положено, и все.
— А ты? Тебе за что дали?
— Ну, мало ли, сейчас и не припомню… — смущается дед. (Здорово я его поймал — пусть-ка объяснит, за что награды.)
— А помнишь, ты рассказывал…
Дед действительно много рассказывал про войну. Уж кто-кто, а он, за вычетом госпиталей, прошел ее от начала до конца.
…Тридцать один год был начальнику заставы Андрею Жукову, когда 22 июня 1941 года первый снаряд разорвался во дворе. И сразу пошли танки, с гулом куда-то в глубь страны проплыли бомбардировщики.
Пограничники отбивались. Почти день. Одни, без связи, не зная, что происходит у соседей, что впереди, что позади, что кругом. Они, конечно, понимали, что к чему, ждали чего-то, готовились. Но как могла подготовиться маленькая застава, меньше роты, к атаке многомиллионной армии? Смешно!
И все же они держались почти день. Немцам было некогда, они рвались туда, вглубь. Танки, грузовики с пехотой, артиллерия, мотоциклисты налетали, удивленно упирались в эту крохотную крепость, яростно пытались смять и, не смяв, раздраженно обтекали и уходили вперед, туда, в туманную даль, затянутую дымом пожарищ. А тут оставались какие-то части, чтобы вынуть занозу, вогнать в землю эту непонятную горстку людей, неизвестно на что надеявшуюся и уж совсем непонятно, зачем сопротивлявшуюся. Застава была прилично укреплена, Андрей Жуков был въедливый и предусмотрительный начальник, обеспечена боеприпасами. Пограничники знали свое дело, то были люди решительные, смелые, даже отчаянные, и воевали они с умом, без истерик и ненужного риска. И прекрасно знали, что их ждет. Иллюзий не строили.