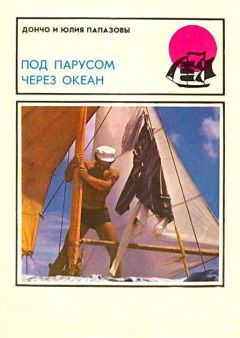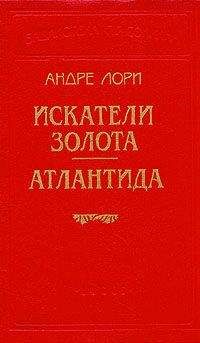Георгий Кубанский - «На суше и на море» 1962
Иван Акимович искренне обрадовался неожиданному подкреплению. Много ли сделаешь с людьми, не понимая их, хотя бы они и хотели всей душой помочь тебе? А тут такая помощь — две пары рук, да еще и переводчик!..
Пока внизу разбирали завал, Иван Акимович со своими людьми соорудил грубое подобие подвесной дороги. От борта к борту протянули стальной трос. С приподнятого правого борта закрепили его за рым[6], а на притоплеппом левом борту подняли повыше. Подвешенный на блоке к наклонному тросу ящик, увлекаемый собственной тяжестью, скользил с перегруженного левого борта на правый. Там его подхватывали матросы и надежно крепили в штабеле. Труднее всего оказалось придерживать скользящий на блоке ящик оттяжками из пенькового троса. Но и с этим справились умелые руки матросов. Обмотали они оттяжки вокруг стоечного бруса и теперь без особого напряжения сдерживали любой рывок качки.
Иван Акимович оставил самодельную подвесную дорогу Петру Андреевичу, а сам взял Морозова, набрал новых людей и принялся сооружать вторую, такую же.
На этот раз Тони Мерч не стал спорить. Правота русского была слишком наглядна.
Ящик за ящиком, тяжко покачиваясь и поскрипывая канатами, переправлялись через пустое пространство к правому борту. Слышались лишь знакомые возгласы.
— Вира, помалу!
— Потравливай!
— Давай, давай!
Значительно труднее пришлось матросам, разбиравшим завал между грузовыми отсеками. Бревна после каждого удара волны перемещались. Приходилось работать осторожно, по сматривал по сторонам.
Матросы трудились по-авральному, не щадя ни рук, ни сил. Пора было дать им передохнуть.
Близящийся перерыв беспокоил Петра Андреевича. Что почувствуют матросы, когда оторвутся от работы, поглощающей все их внимание? Как подействуют на них удары волн, раскатистый грохот в трюме, плеск воды за бортом, под ногами и даже над головой?
Команду на отдых подал Тони Мерч и сам первым опустился на подвернувшийся ящик.
Обычно матросы устраиваются на перекур там, где их застает команда. Но на этот раз в огромном гулком трюме, где привольно гуляло эхо, удесятеряя шум шторма, скрип шпангоута и многие непонятные, а потому тревожащие звуки, люди, сами того не замечая, сбились в кучу. Один боцман лежал в стороне на большом ящике, широко раскинув руки. И ноги.
Минута за минутой тянулись почти в полном молчании. Кое у кого на лицах появилось знакомое выражение настороженного ожидания.
Петр Андреевич напряженно искал, чем бы отвлечь матросов от ненужных размышлений. Попробовал он пошутить. Морозов перевел. Один Ларсен слегка улыбнулся. Остальные не шелохнулись. И не удивительно. Что за шутка… в переводе? Молчание становилось все более тягостным. Люди курили с каким-то ожесточением, посматривая друг на друга так, будто ожидали услышать нечто тревожное. Петр Андреевич напряженно обдумывал, как-бы поднять настроение матросов. Анекдот, смешной случай из пережитого… Все не годилось. В переводе теряются интонации рассказчика, а вместе с ними и соль занятной истории, живинка. А не хватить ли задорную частушку? Пускай послушают, увидят, что русский моряк нигде не робеет. И вдруг Петр Андреевич оживился.
— Запевай «Катюшу»! — Ударил он по плечу Морозова. — Давай! Фронтовая подружка и тут не подведет.
Морозов понимающе кивнул и запел звонким мальчишеским голосом:
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой…
Петр Андреевич подхватил с Иваном Акимовичем:
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой…
В пение ворвался могучий густой бас. Кто это? Петр Андреевич, не оборачиваясь, покосился в сторону баса. Голос его сорвался от изумления. Беллерсхайм! Здорово!
А Беллерсхайм потянул за собой остальных. Пели Ларсен и Тони Мерч, ирландцы и негры, и матрос с изжелта-смуглой кожей, национальности которого на взгляд не определишь — португалец, испанец, а быть может, и итальянец?
Песня звучала все громче. Могучее трюмное эхо из врага превратилось в друга. Оно удесятерило силу человеческих голосов, теснило рвущиеся извне звуки бури, и потрескивание шпангоута, и плеск воды. В песне смешались русские, английские, португальские слова. Но все понимали, что Катюша любит хорошего парня, ждет его, сбережет ему свою чистую девичью любовь, а главное, ничего страшного с парнем, находящимся вдалеке от деревушки, не случится…
Песня захватила всех, отвлекла от сумрачного трюма, от темных углов, куда не добирался желтоватый свет подвесной люстры. На людей нахлынули чувства, далекие от невеселой действительности. Да и сам Петр Андреевич глядел на окружающие его обросшие усталые лица по-иному. Не слишком ли он осторожничал с этими людьми. Конечно, трудно было понять их. Вон Беллерсхайм, от которого он так хотел избавиться, обхватил узловатыми ручищами колени и, пригибая упрямую лобастую голову, давит голоса соседей своим могучим басом.
И когда песня кончилась, Петр Андреевич почувствовал, как потеплели его отношения с чужими матросами. Хотелось закрепить растущее, доброе, хотя и бессловесное взаимопонимание. Попробовать разве «Песню о Родине»? А не сочтут ли это за агитацию на чужом пароходе? Народ-то здесь разный. Как Тони Мерч преподнес ему «Свободную Ирландию»! Пока Петр Андреевич перебирал в памяти знакомые песни, выручил его Олаф Ларсен: запел хорошо известную всему миру мелодию. Рыбаки, а за ними и матросы «Гертруды» охотно подхватили:
…Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера…
Песня росла, ширилась, смешивая незнакомые слова в единый, понятный всему человечеству язык. Она увлекала людей все больше. Хотелось жить, пользоваться прелестью летних вечеров — под Москвой, в Дублине, Галифаксе и Лиссабоне. Каждый пел о своих вечерах, видел близкую сердцу картину: приземистые строения ирландских поселков, остроконечные крыши солнечного Шлезвига, затянутый туманною дымкою берег Уэлса. И лица вставали перед поющими очень разные: девичьи, свежие; и старушечьи, сморщенные; и пухлые ребячьи — но все одинаково близкие, вызывающие острое желание повидать их…
— Отдохнули? — поднялся Петр Андреевич.
— Пошел все по местам! — бухнул басом Беллерсхайм, натягивая рукавицы с таким видом, будто готовился к драке.
Матросам не пришлось объяснять, куда идти и что делать Рабочие места у них уже определились. Появилось и ощущение товарищеского плеча.
Петр Андреевич связался по телефону с ходовой рубкой в объявил работающим, что крен уменьшился на два градуса. Это было немного. Но все же опасность убывала.