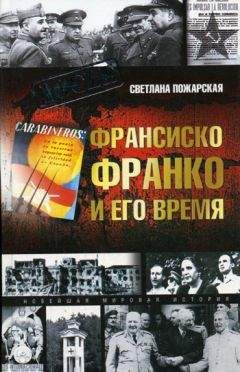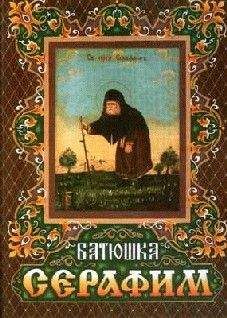Иван Ефремов - Рассказы о необыкновенном
Эти связи, хранясь под спудом его личной памяти, возникли и у него, Леонтьева. Таким образом, здесь чудесно только одно — замечательное совпадение проявления древней памяти и важности эллинского секрета именно для него, тоже ставшего скульптором, как и его предки. Очень большое желание создать статую Ирины, воля и напряжение всех сил помогли ему вызвать из области подсознательного картины древней зрительной памяти. Сам того не зная, он все время чувствовал, что знает именно то, что так для него необходимо. Конец разъяснения художник слушал уже рассеянно, кивая головой и как бы стараясь дать мне понять, что он уже все понял. Едва я кончил, как последовал быстрый вопрос:
— Значит, когда ученый сделает перевод, у меня будет рецепт этого средства, профессор? Вы вполне уверены в этом?
Мне трудно передать радость и волнение художника после моего утвердительного ответа.
— Подумайте только! Теперь я и с одной рукой выполню свою мечту, свою цель… — И его длинные пальцы зашевелились, как бы уже обрабатывая волшебный материал мягкой слоновой кости. — Теперь, завтра… — Голос его задрожал. — И это дали мне вы, профессор, ваша наука…
Художник вскочил и схватил меня за руку, потянулся ко мне, как ребенок к отцу, но устыдился своего порыва, отвернулся, сел и опустил голову на здоровую руку, на стол. Плечи его слегка вздрагивали. Я вышел в другую комнату, сам взволнованный до глубины души, и сел там, покуривая…
На следующий день я снова увиделся с художником у эллиниста, сделавшего перевод записи, содержавшей точный рецепт утерянного секрета. После этого я расстался со своим пациентом и принялся наверстывать некоторые упущенные за это время дела, стараясь вместе с тем составить полный отчет со всеми возможными объяснениями о встреченном необычайном случае.
Дни шли, весенние сменились летними, незаметно подошла осень. Я сильно устал от большой нагрузки, годы как-никак давали себя знать; немного прихворнул и отсиживался дома. Неожиданно ко мне явились двое молодых людей. Я сразу узнал Леонтьева и угадал его Ирину. Рука художника еще висела на перевязи, но это был уже совсем другой человек, и я редко встречал на чьем-либо лице столько ясности и доброты. Про Ирину я скажу только, что она стоила безумной любви художника и всех наших трудов в поисках эллинского секрета.
Ирина крепко поцеловала меня, молча глядя мне в глаза, и, право же, я был больше тронут этой безмолвной благодарностью, чем тысячей дифирамбов.
Леонтьев, волнуясь, сказал, что статуя уже готова, он посвящает ее науке и мне как дань спасенного спасителю, чувства — разуму и очень хочет показать ее мне. Ну, статую я видел. Описывать ее не берусь — это будет сделано специалистами. Как анатом, я увидел в ней то самое высшее совершенство целесообразности, что все вы назовете красотой, в которую любовь автора вложила радостное и легкое движение. Словом, от статуи не хотелось уходить. Долго еще перед глазами стояла эта изумительно прекрасная женщина как доказательство всей силы власти Формы — тонкого счастья красоты, общего для всех людей».
ОЗЕРО ГОРНЫХ ДУХОВ
Несколько лет назад я прошёл с маршрутным исследованием часть Центрального Алтая, хребет Листвягу, в области левобережья верховьев Катуни. Золото было тогда моей целью. Хотя я и не нашёл стоящих россыпей, однако был в полном восторге от чудесной природы Алтая.
В местах моих работ не было ничего особо примечательного. Листвяга — хребет сравнительно низкий, вечных снегов — «белков» — на нём не имеется, значит, нет и сверкающего разнообразия ледников, горных озёр, грозных пиков и всей той высокогорной красоты, которая поражает и пленяет вас в более высоких хребтах. Однако суровая привлекательность массивных гольцов, поднимающих свои скалистые спины над мохнатой тайгой, горы, толпящиеся под гольцами, как морские волны, вознаграждали меня за довольно скучное существование в широких болотистых долинах речек, где и проходила главным образом моя работа.
Я люблю северную природу с её молчаливой хмуростью, однообразием небогатых красок, люблю, должно быть, за первобытное одиночество и дикость, свойственные ей, и не променяю на картинную яркость юга, назойливо лезущую вам в душу. В минуты тоски по воле, по природе, которые бывают у всякого экспедиционного работника, когда приедается жизнь в большом городе, перед моими глазами встают серые скалы, свинцовое море, лишённые вершин могучие лиственницы и хмурые глубины сырых еловых лесов…
Короче говоря, я был доволен окружающей меня однообразной картиной и с удовольствием выполнял свою задачу. Однако у меня было ещё одно поручение — осмотреть месторождения превосходного асбеста в среднем течении Катуни, близ большого села Чемал. Кратчайший путь тогда лежал мимо самого высокого на Алтае Катунского хребта по долинам Верхней Катуни. Дойдя до села Уймон, я должен был перевалить Теректинские белки — тоже высокий хребет — и через Ондугай снова выйти в долину Катуни. Несмотря на необходимость спешить, вынуждавшую к длинным ежедневным переходам, только на этом пути я испытал настоящее очарование природы Алтая.
Очень хорошо помню момент, когда я со своим небольшим караваном после долгого пути по урману — густому лесу из пихты, кедра и лиственницы — спустился в долину Катуни. В этом месте гладь займища сильно задержала нас: кони проваливались по брюхо в чмокающую бурую грязь, скрытую под растительным слоем. Каждый десяток метров давался с большим трудом. Но я не остановил караван на ночёвку, решив сегодня же перебраться на правый берег Катуни.
Луна рано поднялась над горами, и можно было без труда двигаться дальше. Ровный шум быстрой реки приветствовал наш выход на берег Катуни. В свете луны Катунь казалась очень широкой. Однако, когда проводник въехал на своём чалом коне в шумящую тусклую воду и за ним устремились остальные, воды оказалось не выше колен, и мы легко перебрались на другой берег. Миновав пойму, засыпанную крупным галечником, мы попали опять в болото, называемое сибиряками карагайником. На мягком ковре мха были разбросаны тощие ели, и повсюду торчали высокие кочки, на которых вздымалась и шелестела жёсткая осока. В таком месте лошади вынуждены были бы всю ночь «читать газету», то есть оставаться без корма, а потому я решил двигаться дальше.
Начавшийся подъём давал надежду выбраться на сухое место. Тропа тонула в мрачной черноте елового леса, ноги лошадей — в мягком моховом ковре. Так мы шли часа полтора, пока лес не поредел; появились пихты и кедры, мох почти исчез, но подъём не кончался, а, наоборот, стал ещё круче. Как мы ни бодрились, но после всех дневных передряг ещё два часа подъёма показались очень тяжёлыми. Поэтому все обрадовались, когда подковы лошадей зазвякали, высекая искры из камней, и показалась почти плоская вершина отрога. Здесь были и трава для коней, и годное для палаток сухое место. Мигом развьючили лошадей, поставили палатки под громадными кедрами, и после обычной процедуры поглощения ведра чаю и раскуривания трубок мы погрузились в глубокий сон.