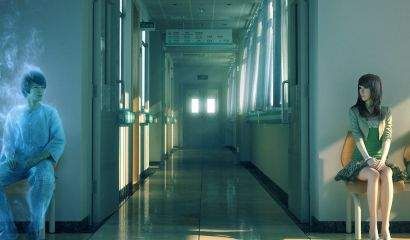Анатолий Днепров - «Мир приключений» 1963 (№09)
И точно, Макшеев мало-помалу увял. Он снимал фуражку, морщась потирал затылок. Затылок у пего тупо ломило. Все вокруг будто вылиняло, чертова палуба ползала взад-вперед, вправо-влево. Штабс-капитан словно прислушивался к чему-то, ощущая в коленях противную слабость. Потом он судорожно выхватил из кармана носовой платок и с жалкой улыбкой кинулся прочь.
Фельдшер иронически осклабился, выбросил окурок и отправился следом за Макшеевым, хота отлично знал, что морскую болезнь медикаментами не вылечишь.
Вернер и Шевченко тоже недолго оставались на баке. Они убрались в каюту и вытянулись на тюфяках, чувствуя себя не очень-то весело. Что же до топографа Акишева, то он, подчиняясь неписаному правилу “солдат спит, а служба засчитывается”, свернулся в уголке, накрылся, невзирая па зной, шинелью да и пустил во асе носовые завертки.
Тем временем шхуна оставила позади отмели. Солнце уже не разделывало под мрамор песчаное дно, глубины пошли достаточные, и Бутаков другими глазами взглянул на море, ил небо, на матросов.
Нынешняя лавировка явилась экзаменом и шхуне и команде. Корабль впервые окунулся в соленую купель, служители впервые исполняли приказания лейтенанта Бутакова. Лейтенант и матросы были балтийцами, по там, на Балтике, они числились в разных экипажах: Бутаков — в девятом, матросы — в сорок пятом.
Он был доволен. Шхуна оказалась поворотливой и послушном; команда действовала с быстротой и сноровкой, и эго лучше любой аттестации свидетельствовало об отличной выучке.
В матросах заключалось три четверти успеха всякого плавания. Бутаков никогда не понимал “отчаянных дисциплинистов”, тех, что предпочитали “гусиный шаг” чистоте маневров, а манеж, кронштадтский плац, “орудие пытки Балтийского флота”, вызывал в нем неодолимое отвращение. Не понимал Бутиков и равнодушия многих офицеров к гигиеническому состоянию корабля, не к внешней, казовой стороне, когда все блестит, а к сырости и затхлости в палубах, ко всем килам матросского довольствия, к противоцинготным средствам, из-за отсутствия которых в Кронштадте ежегодно умирало много “нижних чинов”. Небрежения к матросу он не понимал. Ежели ты чужд человеколюбию, то холодно прими в расчет, что здоровый, незамордованный матрос лучше матроса голодного, болезненного, немого от страха, а стало быть, и тебе, офицеру, озабоченному карьерой, прямая в том выгода. Чего было больше в нем самом — человеколюбия или практического смысла, — Бутаков не исследовал, а без дальних слов пекся о подчиненных. Пороха он не выдумывал. Он исполнил заветы таких мореходов, как Ушаков, Сенявин, Лисянский и Головнин, чьи имена с почтением произносил его отец, Иван Николаевич.
Отправляясь на Арал, Бутаков принял матросов не из своего, а из чужого экипажа. Ему было известно, что в 45-м не так уж сильны “отчаянные дисциплинисты”, а кронштадтские доктора удостоверили отменное здравие всех девятнадцати служителей-унтеров, матросов первой и второй статей, но все же Алексея Ивановича не шутя тревожила морская выучка “будущих аральцев”.
Теперь он радовался. Команда что корабельная рота, один к одному, на подбор молодцы. Вишь, как бойко вбегают на ванты, как лихо работают на реях!
Потянув носом, он учуял запах солонины (денщик Ванюша Тихов, исполняя обязанности кока, готовил обед), и, услышав этот запах, не единожды клятый и не единожды благословляемый, Бутаков толканул локтем штурмана Поспелова. Ксенофонт Егорович ответил ему понимающей улыбкой.
5
В штиле мор похожи друг на друга, каждое море гневается по-своему. Признак близкого аральского шторма — перистые облака. Не полуденные ленивцы и не те неженки, что дремлют на пуховиках зорь, а проворные хищники, которые бегут от горизонта к зениту, когтями вспарывал небо. В них есть что-то напоминающее степных волчиц, когда те, тощие, со свалявшейся шерстью, ровной рысцой проносятся среди ковылей и барханов.
Перистые облака гнал от горизонта к зениту свежий зюйд-вест. Бутаков отдал оба якоря в какой-то бухте, полагая, что ночь отстоит мирно.
Зюйд-вест действительно к вечеру сник. Однако флюгарка на мачте вскоре дрогнула, как в ознобе, мгновение помедлила и повернулась, показав перемену ветра. Задул норд-вест, быстро набрал силу, стал тугой, резиновый, вздыбил волн и, и они ринулись в бухту.
“Как будто в буре есть покой…” Мореходу и впрямь покой можно обрести в буре, по только не в тесной бухте, а вдали от берегов, в открытом море. Увы, теперь поздно было думать об этом. Сунься в горло залива — тотчас шваркнет о камни, и поминай как звали.
“Константина” мотало на якорях, он сотрясался от киля до топов мачт. Ничего другого не оставалось, как просить заступничества Николы Чудотворца, давнего защитника русских плавателей, но Бутаков был плохо знаком с божьими угодниками, и не до молитв ему было. Он перебегал с носа на корму и обратно, опасливо приглядываясь к якорным канатам, которые то напрягались струною, то бессильно провисали в темноту.
Если сорвет с якорей, шхуна неминуемо погибнет; они ушли слишком далеко, чтобы посуху, пустыней добраться до Раима… Если сорвет с якорей, все полетит к чертовой матери, а те, на острове Барса-Кельмес, перемрут голодной смертью — запасов-то у них на неделю, не больше.
Бутаков достал часы, штурман Поспелов поднес фонарь. Было около полуночи, до рассвета оставалось тысяча лет. Пусть бы и шторм гремел, лишь бы рассвело, во тьме беда всегда круче.
Шевченко сидел в каюте, прислушиваясь к гулким ударам волн, и вдруг вспомнил, как Брюллов показывал ему рисунок художника Гагарина. Рисунок этот беглый, неотделанный, Шевченко увидел и позабыл, а тут вдруг припомнил. На рисунке была корабельная каюта, за столом — кудлатым Карл Павлович Брюллов и востролицый, с приглаженными волосами командир брига “Фемистокл” Корнилов. В углу приткнулась стойка с курительными трубками, еще что-то. Брюллов вытянул ноги и скрестил руки, Корнилов запахнулся в халат… Шевченко усмехнулся: в каюте “Константина” так-то не рассядешься, и не только что нынешней ночью, айв красные дни. Почему-то вспомнился этот гагаринский набросок, сделанный лет пятнадцать назад на борту брига, возвращавшегося из Средиземного моря в Черное… Может быть, потому, что Тарас Григорьевич как раз перед штормом задумал изобразить в альбоме каюту “Константина”.
Странное дело: Шевченко точно бы и не страшила ночная буря. Он сознавал опасность, но оставался спокойным. Была и нем уверенность в благополучном исходе и этой штормовой ночи, и всего плавания. С первых же дней, как только начались промеры глубин, съемка и опись берегов и жизнь корабельная пошла размеренной чередою, а они с Вернером привыкли к качке, Шевченко предался работе и нашел в ней нечто родственное своим занятиям в ученой архивной комиссии на Украине. Ничего в аральских пейзажах не было живописного в том смысле, какой вкладывали в это понятие любители “роскоши и неги натуры”, но своя, особая, не сразу приметная прелесть, напоминавшая задумчивый перезвон колокольцев где-нибудь на степном шляхе, таилась в унылых линиях берегов, полуостровов и заливов, и, должно быть, именно такое звучание пейзажа трогало и привлекало Шевченко.