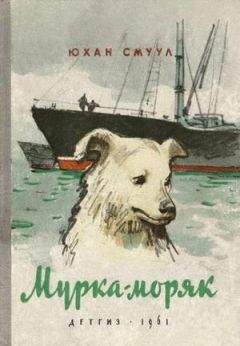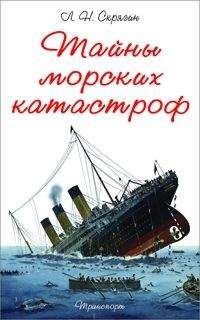Анатолий Днепров - «Мир приключений» 1963 (№09)
Вот она, возможность разом обрубить канаты и выйти на чистую воду! Право, судьба позаботилась о том, чтобы был на свете Арал. Немые, не берег, не речное устье, но море предстояло положить на первую с мире точную карту. Изучить течения, характер грунта, глубины, геологическое строение берегов, фауну и флору. Доподлинная ученая экспедиция! И, наверно, будут острова. Без них недостает в экспедиции как бы главной и определяющей черты. В слове «остров» слышалось Бутакову что-то одинокое и гордое: «Есть остров на том океане, пустынный и мрачный гранит»…
Беллинсгаузен со своим проектом пожаловал в Адмиралтейство. Светлейший князь Меншиков любезно согласился с Фаддеем Фаддеевичем. «О да, — заулыбался князь, — о да, я весьма рад помочь вам, адмирал». Еще более, разумеется, он рад был сплавить подалее лейтенанта Бутакова. Потом Беллинсгаузен навестил военного министра князя Чернышева, туповатого и надменного, как многие военные министры, и добился разрешения на то, чтобы Оренбургский корпус содействовал морской экспедиции. Засим адмирал уламывал министра иностранных дел графа Нессельроде. Граф Карл Васильевич побаивался неудовольствия англичан: Аральское море омывало с юга хивинские земли, а на Хиву целил Джон Буль (британцы).
Наконец, в январе сорок восьмого года, все было решено, и старик Беллинсгаузен благословил лейтенанта.
С тех крещенских дней минуло шесть месяцев. Разве позабудешь степной зной, пыль, тухлую воду? Разве позабудешь стук топоров на раимской пристани? На телегах волокли разобранную шхуну из Оренбурга к Сыр-Дарье, в Раиме собирали, сколачивали ее, конопатили, красили, вооружали. А нынче вьется, потрескивая, брейд-вымпел — корабль вступил в кампанию. Впереди нынче праздничная синь, как в тропических широтах Атлантики или в Эгейском море. И могучая зыбь наваливает с веста.
4
С ни стояли на носу шхуны, словно нарочно выстроившись по ранжиру. С правого фланга самый высокий — худой, жердью — минералог Томаш Вернер, бок о бок с ним — гвардейской выправки штабс-капитан Макшеев с усами а ля Марлинский, потом — топограф прапорщик Акишев; дубленное солнцем, обветренное лицо его выдавало человека, который больше жил под открытым небом, нежели под крышей; рядом с Акишевым — корабельный живописец Тарас Шевченко, приземистый, в плечах широкий, мешковатый, и, наконец, фельдшер Истомин, коротышка с сигаркой в углу губ.
Макшеев, улыбаясь и показывая в улыбке ровные крепкие зубы, декламировал:
Привет тебе, свободная стихия!
Вот в первый раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой…
Переиначив Пушкина, он весело заметил, что Александр Сергеевич, очевидно, стерпел бы его вольность.
— Гм, пожалуй, — хмыкнул медик, выпуская через ноздри дым.
Остальные промолчали.
Шевченко брала оторопь… Как поймать хоть один переплеск моря, живую, изменчивую игру лучей, зыбкость красок — то густо-зеленых, то сизоватых, то сиреневых? Как заставить мере плеснуть на холст и остаться на холсте постоянным в своем непостоянстве? И вместе с этой оторопью — неожиданная мысль: ему уже тридцать пятый, он на перевале, зрелость, полдень настанут здесь, под сенью парусов. Удивительно, странно, вот уж никогда не думал! Странно и радостно. Хорошо! И этот солоноватый ветер, и этот мужицкий запах пеньки, перебежка лучей в воде, игра зыбких полос, то густо-зеленых, то сизоватых, то сиреневых… Господи, как хорошо… Что он там говорит, этот Макшеев? Ну, напал на штабс-капитана философический бред…
Отмалчивался и поляк Томаш Вернер. Как и Шевченко, его приговорили к солдатчине за крамолу, он тоже отбывал ссылку рядовым линейного батальона и тоже чурался вот таких, как штабс-капитан, чурался всех офицеров. На плацу, в казармах, Томаш не видел от них ничего, кроме пакостей. Разве что лейтенант Бутаков сделал ему доброе дело, определив в экспедицию минералогом. Остальные же… Будь они прокляты! Еще в Раиме Томаш приметил, как держится с «официей» Тарас Григорьевич. Всегда-то он пред ликом начальства спокоен, так и сквозит в нем чувство превосходства, даже, пожалуй, некая важность. А он, Томаш, в присутствии «официи» испытывает нервную взвинченность, сжимается в комок.
Акишев, топограф, помалкивал по той простой причине, что был не речист, да еще, может, оттого, что штабс-капитан, прибывший из столицы, из академии, смущал его.
И только фельдшер Истомин время от времени поддакивал Макшееву. Тертый гарнизонным калач, Истомин, подобно многим военным медикам, давно усвоил топ легкой фамильярности даже со старшими офицерами. Пусть ты хоть полный генерал, а ведь и тебе понадобится лекарь. Да вот и теперь, когда шхуна уже несколько часов кряду ложится с борта на борт, переваливается с носа на корму, вот» теперь некий штабс-капитан взывает, кажется, о помощи.
И точно, Макшеев мало-помалу увял. Он снимал фуражку, морщась потирал затылок. Затылок у него тупо ломило. Все вокруг будто вылиняло, чертова палуба ползала взад-вперед, вправо-влево. Штабс-капитан словно прислушивался к чему-то, ощущая в коленях противную слабость. Потом он судорожно выхватил из кармана носовой платок и с жалкой улыбкой кинулся прочь.
Фельдшер иронически осклабился, выбросил окурок и отправился следом за Макшеевым, хота отлично знал, что морскую болезнь медикаментами не вылечишь.
Вернер и Шевченко тоже недолго оставались на баке. Они убрались в каюту и вытянулись на тюфяках, чувствуя себя не очень-то весело. Что же до топографа Акишева, то он, подчиняясь неписаному правилу «солдат спит, а служба засчитывается», свернулся в уголке, накрылся, невзирая на зной, шинелью да и пустил во асе носовые завертки.
Тем временем шхуна оставила позади отмели. Солнце уже не разделывало под мрамор песчаное дно, глубины пошли достаточные, и Бутаков другими глазами взглянул на море, ил небо, на матросов.
Нынешняя лавировка явилась экзаменом и шхуне и команде. Корабль впервые окунулся в соленую купель, служители впервые исполняли приказания лейтенанта Бутакова. Лейтенант и матросы были балтийцами, по там, на Балтике, они числились в разных экипажах: Бутаков — в девятом, матросы — в сорок пятом.
Он был доволен. Шхуна оказалась поворотливой и послушном; команда действовала с быстротой и сноровкой, и это лучше любой аттестации свидетельствовало об отличной выучке.
В матросах заключалось три четверти успеха всякого плавания. Бутаков никогда не понимал «отчаянных дисциплинистов», тех, что предпочитали «гусиный шаг» чистоте маневров, а манеж, кронштадтский плац, «орудие пытки Балтийского флота», вызывал в нем неодолимое отвращение. Не понимал Бутиков и равнодушия многих офицеров к гигиеническому состоянию корабля, не к внешней, казовой стороне, когда все блестит, а к сырости и затхлости в палубах, ко всем килам матросского довольствия, к противоцинготным средствам, из-за отсутствия которых в Кронштадте ежегодно умирало много «нижних чинов». Небрежения к матросу он не понимал. Ежели ты чужд человеколюбию, то холодно прими в расчет, что здоровый, незамордованный матрос лучше матроса голодного, болезненного, немого от страха, а стало быть, и тебе, офицеру, озабоченному карьерой, прямая в том выгода. Чего было больше в нем самом — человеколюбия или практического смысла, — Бутаков не исследовал, а без дальних слов пекся о подчиненных. Пороха он не выдумывал. Он исполнил заветы таких мореходов, как Ушаков, Сенявин, Лисянский и Головнин, чьи имена с почтением произносил его отец, Иван Николаевич.