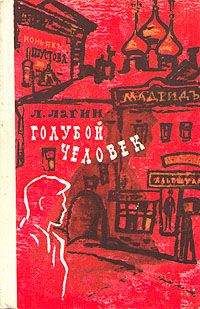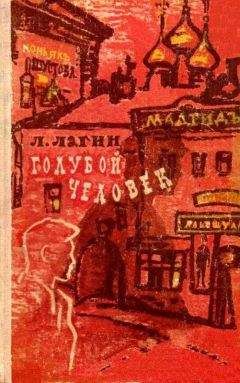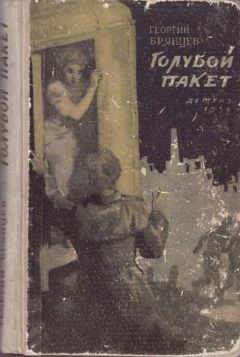Георгий Брянцев - Голубой пакет
Шелестов, чтобы устоять на ногах, наклонил корпус вперед, будто готовясь ударить кого-то головой, и то еле-еле удержался.
"Сидеть здесь нам крепко, – подумал он. – Будь она проклята, эта пурга. И нужно же было ей свалиться на наши головы именно сегодня! Уйдет "Красноголовый". Определенно уйдет. А чего доброго, переберется на ту сторону. И что предпринять, ей-богу, не знаю. Что только делается! Ничего не видно. Жуть какая-то", – но тут ему мгновенно пришла новая мысль.
Шелестов вернулся в палатку, задернул полог, закрепил конец шнура за стойку и остановил глаза на Эверстовой.
Радистка приподнялась и без слов поняла, что интересует майора, и сказала:
– Могу сейчас же.
Шелестов кивнул головой, сел на прежнее место, достал из полевой сумки блокнот, карандаш и стал быстро писать.
Эверстова вынула из чехла портативную радиостанцию, раскрыла ее, надела наушники и попросила Петренко вывести антенну.
Вынужденное бездействие мучило Эверстову. Она готова была разрыдаться от сознания того, что ни майор, ни лейтенант, ни она не могут придумать и предпринять что-нибудь действенное для поимки ускользающего из их рук Шараборина. А тут еще вдобавок ко всему сидит этот Белолюбский, в присутствии которого нельзя обмолвиться лишним словом.
Установив антенну, в палатку вошел Петренко. Он не мог скрыть своего волнения.
"Неужели упустили? Неужели уйдет? Как же быть? В конце концов нельзя же сидеть на месте! Шут с ней, с погодой", – думал он.
Он попросил кусочек бумаги у Эверстовой, быстро набросал на нем несколько фраз и передал листок Шелестову.
Тот прочел:
"Разрешите мне запрячь в нарты оленей, взять запасных, прихватить Белолюбского и пробираться вместе с ним к озеру".
Шелестов покачал отрицательно головой, бросил бумажку в печь и подумал:
"Горячая молодость! Для нее нет преград!" – и спросил, подавая Петренко листок:
– А как вы на это смотрите?
Быстро пробежав несколько строк, лейтенант с улыбкой ответил:
– Положительно. Прекрасно…
– Передайте тогда Надюше.
Эверстова, получив бумажку, прочла ее, посмотрела на майора и быстро закивала головой. Потом она склонилась над радиостанцией и стала искать в эфире позывные центра.
"Совещаются, – подумал Белолюбский. – Вот же бестолковые люди! Сколько же еще на свете идиотов! Ну чего тянут? Ведь скоро девять часов. Осталось каких-нибудь три часа!"
Он убеждался, что его "признание" не пошло впрок. Непонятные для него офицеры, оказывается, не желают чинить препятствий Шараборину в его намерении перебраться на ту сторону. Все внутри у Белолюбского ходило ходуном. Он не стерпел и, с трудом уняв раздражение и злобу, внешне спокойно, с прежней развязностью сказал:
– По-моему, нам торопиться надо, гражданин начальник. Улетит Шараборин. Как пить дать, улетит.
– Пурга, – не менее спокойно ответил Шелестов. – Слышите, что там творится? Придется запасаться терпением. Никакой самолет в такую погоду не прилетит. Собьется с курса. А одолеть пятьдесят километров за три часа при таком буране никому не под силу. Да и олени не пойдут.
– Олени не пойдут, – человек пойдет, – попытался Белолюбский еще раз воззвать к разуму майора. – Лейтенант отличный лыжник, я тоже неплохо хожу.
– Поздно, – отрезал майор. – Не надо было мудрить, а говорить раньше.
Белолюбский закусил губу. Гримаса передернула его лицо. Глаза его налились кровью. Он готов был взвыть от обиды, готов был кататься по земле. Мысль о том, что уже завтра, быть может, Шараборин будет далеко и, вспоминая его, станет смеяться, вызывала неодолимые приступы бешенства. Он поднял скованные руки и с ожесточением стал рвать волосы.
Но никто не обратил на это внимания.
Взоры майора и лейтенанта были прикованы сейчас к Эверстовой. Вот она подняла левую руку ладонью вверх, как бы стремясь водворить тишину, и затем сказала:
– Меня просят переходить сразу на прием.
– Нет, нет, – запротестовал Шелестов. – Ни в коем случае. Пусть сначала принимают.
Эверстова поняла майора и энергично застучала ключом.
*
* *
Было десять часов с минутами. Петренко и Эверстова по приказанию майора легли спать.
Белолюбский сделал вид, что тоже спит, и лежал с закрытыми глазами на спине, протянув ноги к печке. Опустошенный, подавленный, он потерял сон. Все рухнуло, все планы разлетелись вдребезги, и его мозг уже не видел никакого выхода.
Шелестов не спал и не пытался ложиться. Он сидел, курил одну папиросу за другой и, прислушиваясь к завываниям ветра, думал о своем. Мысли его то витали около Кривого озера, то заносили его в Якутск, в круг семьи, то возвращали назад, туда, к перекрестку, где остался лежать Василий Назарович Быканыров, то упорно бились над решением вопроса, как и что надо выведать еще от пойманного Белолюбского.
Когда сон начинал туманить его голову, Шелестов протягивал руку к сухим поленьям и подбрасывал их в печь, чтобы она не затухла.
Около одиннадцати часов майору показалось, будто порывы ветра стали слабее. Он прислушался. Действительно, палатка уже не сотрясалась, ветер не задувал в трубу, стало сравнительно теплее.
"Хотя бы… Хотя бы…" – подумал с тоской Шелестов и, приподнявшись с места, вышел на воздух.
Первое, что сейчас же бросилось в глаза, – хорошая видимость, которой не было час тому назад. Конечно, видимость не отличная и даже не обычная, но вполне достаточная, чтобы легко разглядеть и пересчитать оленей, сбившихся в кучку метрах в десяти от палатки. А еще некоторое время тому назад это было невозможно.
Снег почти не падал. Сквозь разрывы в облаках кое-где проглядывали звезды. Но самое важное – улегся ветер. Еще не совсем, правда, но значительно. Шелестов мог теперь без всяких усилий стоять во весь рост.
"Хорошо… Замечательно…" – заметил Шелестов. Вооружившись лыжной палкой и прихрамывая на левую ногу, он обошел место стоянки и убедился, что все следы ведшие на привал и с привала, исчезли, будто их никогда и не было. Кругом лежал цельный, нетронутый снег. "Выходит, что, приехав сюда вчера часом или двумя позднее, мы бы потеряли не только Шараборина, но и Белолюбского. – Майор постоял несколько минут и, наблюдая, как заметно слабеет ветер, подумал: – Выбился из сил, присмирел".
Он вернулся в палатку, не торопясь закурил и, заметив, как под приспущенными веками Белолюбского поблескивают глаза, сказал ему:
– Что притворяться, ведь не спите? Поднимайтесь.