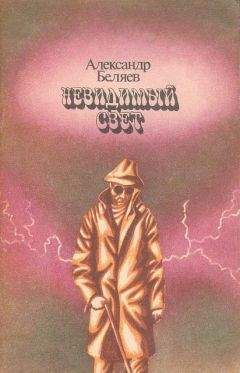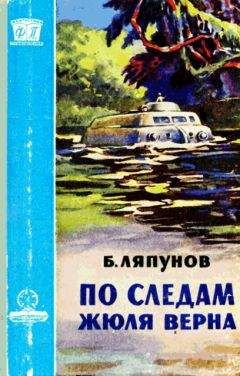Александр Беляев - Невидимый свет
Когда все было окончено, Морель подошел к открытому окну и с видом победителя посмотрел на расстилавшийся внизу лес. Морель мог гордиться. Это была победа. Морель больше не был беззащитным существом. Он сожалел, что у него нет фотографического аппарата, чтобы увековечить свое жилище и показать его потом своим ученым товарищам.
Морель вызывал в своем воображении лица друзей и знакомых и с удивлением заметил, что фамилии некоторых из них он не может вспомнить. «Что за странное ослабление памяти? — подумал Морель. Может быть, это последствие болезни? Этак и говорить разучусь…»
Морель решил чаще говорить вслух. Он читал лекции своим воображаемым слушателям, и в дебрях тропического леса слышались мудреные латинские слова, которые, видимо, очень нравились попугаям. Казалось, эхо отражало его речь в искаженном до неузнаваемости виде.
— Паук мигалес, — говорил Морель.
— А у иаес, — вторили попугаи, заливаясь хохотом.
— Кыш вы, горластые! — кричал Морель на своих недисциплинированных слушателей. Но они продолжали усердно повторять его лекцию, пока он не замолкал.
VIII. ЧЕЛОВЕК БЕЗ ИМЕНИ
Морель усердно упражнялся в произнесении речей. Но постепенно эти занятия становились все реже. Заботы дня и научная работа по собиранию и классификации насекомых отвлекали его. Не замечал он и другого: с каждым днем его лексикон становился все беднее, речь суше, бледнее. Она все больше была испещрена научными терминами, и его лекции напоминали уже латынь средневекового ученого. Только раз, тщетно стараясь вспомнить забытое слово, он обратил внимание на этот «распад личности» и несколько обеспокоился: «Да, я дичаю», — подумал он, но и к этому факту подошел как натуралист.
«Естественный биологический закон, подмеченный еще Дарвином. Сложный организм, попавший в простейшую среду, должен или погибнуть, или «упроститься». То, что в культурном обществе было необходимо и составляло мою силу, теперь в лучшем случае является ненужным балластом, так же как в Париже мне не нужны были собачья острота обоняния и слух пумы. И если во мне пробудились инстинкты, дремавшие в человеке сотни тысяч лет, то, конечно, вернутся и мои «культурные» приобретения, когда я возвращусь в свою среду».
Так успокаивал он себя, и все же где-то в подсознании шевелились тревожные, едва оформившиеся мысли: «Я дичаю, возвращаюсь на низшую ступень биологической лестницы. Если я проживу здесь несколько лет, то превращусь в дикаря».
Морель привык к одиночеству, был всегда углублен в себя, поэтому не очень страдал от отсутствия общества. Ему не приходило в голову приручить собаку или попугая, чтобы иметь общение с живым существом. Его единственным, но зато многочисленным обществом были насекомые и в особенности пауки. Он мог часами неподвижно сидеть, уставившись на какого-нибудь паука, и наблюдать за его работой. По-своему Морель был даже счастлив. Среди пауков, ос, муравьев он чувствовал себя в «своем обществе».
Бразилия в этом отношении была настоящим раем для ученого. Едва ли на всем земном шаре можно найти второе такое место, где волны жизни бушевали бы с такой неистощимой, ничем не сдерживаемой энергией. И Морель погрузился в этот безграничный океан; каждый день приносил ему что-нибудь новое, изумительно интересное. Морель был похож на золотоискателя и целыми днями, забывая о еде, подбирал свои «самородки» или бродил по лесам в поисках новых сокровищ. Морель-ученый спасал Мореля-человека от полного одичания, и все же в Мореле происходил незаметный для него, но огромный внутренний процесс упрощения психики. В его мозгу оставались нетронутыми только клетки, принимавшие участие в его научной работе. Во всем остальном он действительно дичал. Он был нетребователен, как дикарь, в пище, запустил свою внешность. Его волосы отросли до плеч. Костюм давно висел на нем лохмотьями. Только ногти он остригал маленькими ножницами или чаще откусывал зубами, чтобы они не мешали ему при работе над насекомыми.
Главное изменение его психики заключалось в том, что у него постепенно угасало самое чувство общественности. Ему не только не нужно было общество людей, но и научная работа как бы потеряла для него общественную ценность. Она стала самоцелью. Он делал величайшие открытия, которые привели бы в восторг не только натуралистов, но и химиков. Он находил новые красящие вещества, растения, содержавшие огромное количество эфирных масел, ароматических смол, или такие, сок которых обладал свойствами каучуковых деревьев. Всего этого имелись здесь колоссальные, неистощимые запасы. Но ему ни разу не пришла мысль об эксплуатации находящихся здесь богатств.
Он только отмечал, регистрировал эти факты как интересные научные открытия. Если бы Морель узнал, что все человечество, до последнего человека, погибло от какой-нибудь катастрофы и на безлюдной Земле остался только он один — это едва ли потрясло бы его, и он продолжал бы заниматься своими научными работами по-прежнему. Даже честолюбие угасло в нем. Он уже не мечтал о славе. Мысль о возвращении к людям все реже посещала его. Только когда вторично наступил период дождей, Мореля охватило смутное беспокойство. Но он объяснил его тем, что дожди мешают ему совершать обычные экскурсии. Тогда он начал усиленно заниматься в своей лаборатории, приводя в порядок коллекции.
Морель почти не замечал течения времени. Часы его давно стали. Календарь, который он вел одно время, вырезывая на палочках зарубки, был заброшен. Он стал отмечать только годы по периодам дождей, но вскоре оставил и это. К чему? Единственным измерителем времени мог служить его музей, который все пополнялся. Но и этот измеритель был неточен. Когда полки, стены и даже пол его рабочего кабинета переполнились собранными им насекомыми, как поле, покрытое саранчой, Морель начал выбрасывать одинаковые экземпляры, оставляя по одному каждого семейства или подсемейства. Но так как экспонаты все продолжали прибывать, ему пришлось выбрасывать одних насекомых, чтобы положить на их место других, более редких или впервые открытых им. Только феноменальная память Мореля сохраняла всю историю его научных исследований. Однако эти драгоценные знания были затеряны вместе с их обладателем в дебрях бразильских лесов.
Морель давно уже не говорил вслух и не читал лекций своим воображаемым слушателям. Незаметно для себя он утрачивал речь и превращался в бессловесное существо.
Однажды целый день его преследовало слово, значение которого он не мог припомнить: «Морель!.. Что бы это значило? Морель… Морель…»
Его бесило, что он не может припомнить значения слова, которое казалось таким привычным, знакомым. Эти усилия припоминания мешали ему, вносили беспорядок в работу мысли, и он постарался запрятать надоедливое слово в глубокий ящик подсознания. Морель не знал, что в этот день он стал человеком без имени.