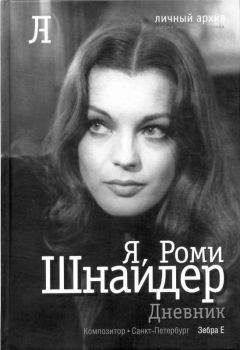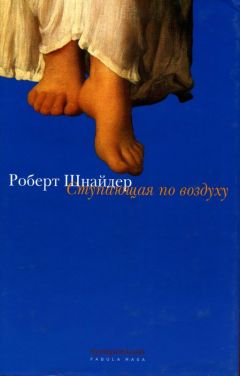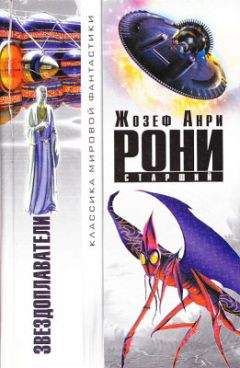Евгений Рысс - Шестеро вышли в путь
— Имейте в виду, Ольга Юрьевна: если попробуете крикнуть — придушу без предупреждения!
Первой поднимается Ольга, за ней Булатов и Катайков. Они в маленькой каморке: окно без стекла, забранное ржавой решеткой, и две двери, одна против другой.
Монах выглядывает в окно, прислушивается. На воле ветер. Взволнованно шумят деревья. Монах приотворяет дверь, высовывает голову, осматривается.
— Можно идти, — решает он.
Тропа ведет вниз. Скосив глаза, Ольга видит, откуда они вышли. Это задняя стена часовни, маленькой часовни, повернутой задом к лесу.
Деревья обступают их. Вот уже и часовня пропала, стволы, стволы, стволы, огромные одинаковые стволы смыкаются за ними. Тропа приводит к небольшому озеру. Дальше дороги нет. Монах входит в воду, ногами нащупывая невидимый брод. Порой ноги его скользят — тогда он поминает черта, но ухитряется сохранить равновесие и снова находит верную дорогу, Ольга тяжело дышит, она ослабела, порой она почти теряет сознание. Монах тащит ее за руку.
Все-таки она успевает оглянуться. Она видит идущих сзади Булатова и Катайкова. Высокий, худой Дмитрий Валентинович и маленький, коренастый Тимофей Семенович шагают по воде робко, подолгу ощупывая ногами дно. Они держат друг друга за руки, точно двое маленьких детей, и движения их по-детски неуверенны.
Но вот они вышли на берег. Озеро осталось позади. Земля заросла мхом, травой, папоротниками. Здесь нет тропинки, но монах идет уверенно — он хорошо знает приметы. Еще метров сто или сто пятьдесят тащит он Ольгу за руку и наконец отпускает ее. Задыхаясь, Ольга садится. У нее кружится голова. Деревья, кажется ей, качаются и кружатся по небу. Подходят Булатов и Катайков. Постепенно Ольга приходит в себя. Деревья перестают кружиться. В глазах уже не рябит. Возмущенная, она поднимается с земли.
— Ну, знаете... — говорит она.
Монах перебивает ее и говорит, улыбаясь и низко кланяясь:
— Извините, Ольга Юрьевна, заботился о вашей же безопасности. Не дай бог, закричали бы! А теперь можете кричать сколько желаете. Тут вас одни дятлы да белки услышат.
Булатов закуривает. Все четверо стоят молча. Катайков вытирает со лба пот и бормочет, кажется, молитву. Даже отец Елисей немного устал. Он тоже вытирает лицо рукавом рясы. Все молчат.
Из леса доносится негромкий свист. Птичьим криком отвечает монах. Еще минута молчания — и из-за деревьев выходит полковник Миловидов.
— Революция произошла, — говорит он, — но правительство своевременно эмигрировало. Все отлично, господа! Пока эти болваны будут обсуждать новое социальное устройство, мы вполне успеем сесть на шхуну.
Глава двадцать третья
ХАРБОВ ПРИНИМАЕТ КОМАНДОВАНИЕ
Полусумрак сарая, маленький кусочек неба, видный в отверстие крыши — там, где Колька оторвал доску, серьезное, взволнованное Колькино лицо и отчетливый его шепот. Колька торопливо сообщает новости.
Первая новость: Патетюрин убежал. Это Колька сам видел, так что сомнений не может быть. Значит, он приведет помощь. Мы наскоро рассчитали — дней пять надо ждать, не меньше. Харбов предполагает, что, может быть, известия, сообщенные Моденовым и Задоровым, встревожили Грушина. Может быть, и до прихода Патетюрина выслал Фастов отряд милиции. Рассчитывать на это нельзя. Уверенно можно ждать помощь только через пять дней. Трудно предугадать, что случится за это время.
Колька рассказывает про разговор с Ольгой. Интонацией и голосом он старается подчеркнуть безусловную искренность Ольги, как будто боится, что мы не поверим ей. Мы все стоим, подняв головы, ловя каждое Колькино слово.
— Я в малиннике схоронюсь, — говорит Колька напоследок, — а то как бы кто не прошел. А выпадет минутка — опять залезу. Тут хорошо залезать, удобно. И доску прилажу, чтоб не заметили.
Он начинает опускать доску, но его окликает дядька.
— Колька, слышь! — говорит он. — Есть-то хочешь, наверное?
— Не-е, — отрицает Колька. — Я и не думаю. Я еще день могу не есть и два дня.
Хвастает парень: не выдержать. Хотя, с другой стороны, при его богатом опыте голодания, может, ему и по силам такая задача.
Колька снова опускает доску, и снова его окликает дядька:
— Колька, слышь... — Он мнется: ему, видно, нужно сказать что-то важное, но он не решается.
— Слышу, — доносится сверху.
— Колька, если случится что нехорошее, ты матери вели к Грушину идти — пускай на работу устроит. Слышишь?
— Ага, папка, слышу.
— Она, может, и приживется. Без меня-то ей легче будет. У меня характер жесткий, а она помягче.
Дядьке, видно, трудно было это сказать. Он кряхтит, дергает себя за бородку и переступает в смущении с ноги на ногу.
— Ты, папка, не бойся! — волнуется наверху Колька. — Вернешься и поступишь. Какой разговор...
— Может, ее в больницу няней возьмут, — продолжает дядька, не слушая утешений, — или в библиотеку уборщицей. Им будто обещали денег отпустить на уборщицу.
— Да чего ты, папка! — волнуется Колька. (Нам снизу плохо видно, но, кажется, у него катятся слезы.) — Не думай ты...
— И скажи матери, — упрямо продолжает дядька, — что, мол, за маленьким сам будешь смотреть. Слышь, непременно скажи. А то она постесняется. Она спорить станет, а ты упрись.
— Упрусь, — шепчет Колька, — ей-богу, упрусь! Не сомневайся.
Доска опускается, но дядька опять окликает Кольку:
— Слышь, Колька!
— Слышу, — доносится сверху.
— Еще матери вот что скажи: конечно, батя, мол, за справедливость был, воевал с пауками, но только заставь дурака богу молиться... Ему бы, старому, о детях родных подумать, жену порадовать... Слышишь?
Сверху доносится растерянное «слышу».
— И еще вот что скажи, — настойчиво продолжает дядька, — ему бы, старому, кругом себя посмотреть — на одного паука сто честных людей. А он только и знал шипеть да злобиться. Слышишь, Колька?
Еле-еле доносится сверху «слышу». Доска опустилась — Колька исчез.
Только сейчас мы услышали, что за стенами сарая идет суета и шум. Мимо ворот пробегали люди, перекликались, переговаривались. Слов мы не разбирали, но чувство тревоги охватило нас. Что-то готовилось. У меня мелькнула противная мысль: может быть, сумасшедший полковник решил устроить публичную казнь? Может быть, сейчас размечаются места, где будем стоять мы, приговоренные, и где станет с поднятыми винтовками шеренга бородачей?.. По неуловимым приметам я догадывался, что все думали о том же. Именно потому, что думали, все с подчеркнутым безразличием прислушивались к шуму.
— Может, наши пришли? — неуверенно сказал Саша.
Все молчали. Наши никак не могли подоспеть, но каждому хотелось надеяться, и каждый надеялся. Все-таки видения шеренги солдат и нас, выстроившихся перед дулами, я никак не мог отогнать. Думаю, что и другие тоже.