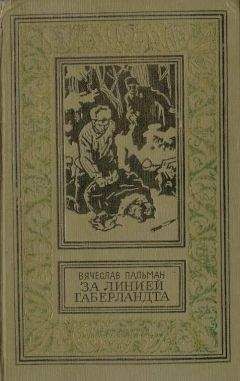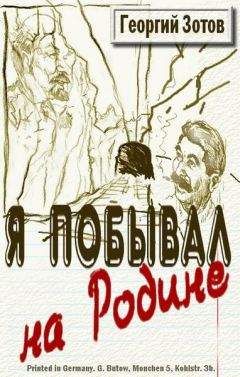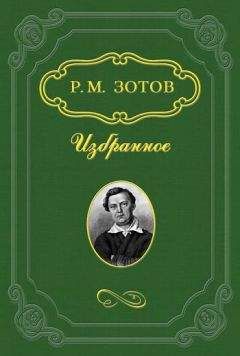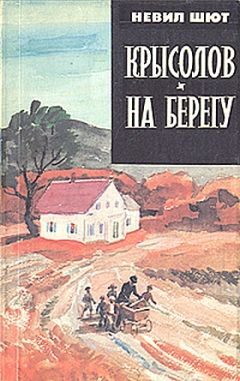Виктор Дудко - Тревожное лето
Перегородив тропу, стояла лошадь Сокоря. Сам он закостеневшими пальцами держал повод, уткнувшись лицом в траву.
Айбоженко слез, постоял над трупом, перевернул ногой, взял карабин.
— Все. Каюк.
— Это ж кто его так?
Айбоженко зло сощурил глаза:
— Ты действительно дурак или только придуриваешься?
— А чего?
— А того. Ну-ка по коням!
Они настигали Губанова. Тот уже слышал погоню, спешился, осторожно снял Леньку, оттащил в густой в рост человека папоротник, увел с тропы коня и стал за стволом липкого от смолы кедра.
Первым выскочил Айбоженко. Он пригнулся к луке, держа карабин, как будто только что поймал его на лету.
Губанов сиял его одним выстрелом. Трухин налетел на поднявшегося на дыбы коня Айбоженко, свалился со своего.
— А ну встань, сволочь... — негромко произнес Губанов, наставив наган на бандита.
Тот быстро перевернулся на живот, хотел выстрелить, но не успел.
Мухачино. Август 1927 г.
— Креста на них нет, иродах... Господи! Мальчонка ведь совсем. Говорит, урожай большой, помочь надо, а сам заикается. Я его чаем с вареньем напоила...
Губанов вытирал потное лицо и все к чему-то прислушивался. Ему чудились сторожкие шаги не то над головой, не то за дверью.
— ...Никуда, говорю, не пойдем мы, так и передай. Он еще переспросил, так и передать товарищу Телегину? Я говорю, так и передай. — Ванда сноровисто обтирала намоченной в спирте тряпкой распухшее Ленькино тело. На груди, голове, руках его из-под бинтов проступали темные пятна и тут же от жара брались корочкой... — Боже мой... Совсем зверями стали.
— Они и были звери, — хрипло сказал Губанов. У него как перехватило горло, когда он увидал облепленного муравьями Леньку, так и не отпускало. — Айбоженко со своими дружками.
— Айбоженко — этот живодер.
— Еще с ним, как его... Ну, морда еще огурцом. Сокорь, кажется... Дышит? — Губанов снова вытер мокрое лицо, нагнулся над Теткиным. — Дышит. Вы тут глядите за ним, и чтоб ни одна живая душа...
Спирт в чашке стал густо-красным и уже не смывал кровь, а размазывал.
— Одна я не смогу, надо кому-то довериться, — сказала тихо Ванда. — Это ж не за собакой глядеть, а за ребенком.
Ленька тяжело задышал, задвигался, хотел подняться, но Губанов успел легонько удержать его.
— Тихо, Ленька... спокойно. Мы всем этим гадам назло выживем. До самой мировой революции жить будем!
Теткин разлепил опухшие веки, пошевелил губами, хотел что-то сказать и не смог. Подобие слабой улыбки пробежало по его лицу. Губанов облегченно вздохнул.
Черемшаны. Август, 1927 г.
— Зря ты его в том гадюшнике оставил, — сокрушался Шершавов, — ой, зря... Надо было в какое-то другое место.
— К Голякову, что ли? — с раздражением спросил Губанов, прекрасно понимая, что к Голякову никак нельзя. Вся деревня мигом узнает.
За Теткина он был спокоен. Не выдаст его Ванда, не в ее это интересах, а вот как обернется с убийством лялинских головорезов? Ведь подозрение может пасть на него. Каким бы доверием он ни пользовался, но заподозрить могут, ведь почти в одно время ушли из лагеря. Вот что мучило Губанова. Он сидел за столом устало ссутулившись и положив перед собой сцепленные руки. Точно в такой же позе сидел напротив и Шершавов. Ставни бумагинского дома были закрыты и завинчены па болты. Пламя жировика коптило. Шершавов снял пальцами крючок черного нагара.
— Ты вот что скажи, Егор Иванович, — оживился Губанов, вспомнив сообщения лялинских постов о появлении разъездов красноармейцев, — что это за патрули бродят по лесу-тайге? На Медвежьем перевале видали их...
Шершавов закивал: мол, понял.
— Это из лошаковской банды. Они ж в нашу форму обмундированы. Блукали, блукали, искали, кому сдаться. Вчера я их отправил во Владивосток.
Губанов смотрел поверх головы Шершавова, мысль его напряженно работала.
— Егор Иванович... вот что. Лялин может предположить, что произошел бой Айбоженко и его людей о разъездом красноармейцев, а? Не с настоящими красноармейцами, а с этими, лошаковцами, часть которых все еще бродит по тайге. Я думаю, может... Вот на них и будет списана гибель этих гадов.
Шершавов согласился.
— Вот еще бы свидетеля. Тогда бы вне подозрения совершенно.
— Будет свидетель. Для этого надо вернуться в Мухачино. Сейчас же, — заволновался Губанов. — Подтвердит игуменья. Ничего с ней не сделается, подтвердит. Придумает как.
Предстояла бешеная гонка среди ночи.
Заимка Хамчука. Август 1927 г.
Весь лагерь пришел в движение. Привели задержанного. Его разглядывали как диковинку какую. Это был среднего роста человек, лет тридцати с небольшим, а может, меньше. Коротенькая рыжеватая бородка не давала возможности точно определить его возраст.
— Да развяжите же руки, вояки, — уже давно требовал задержанный. Кисти его рук посинели и набухли. — Где ваш командир?
— Ишь ты какой скорый!
— Можа, и не понадобится он тебе.
К нему пробирался Животов. Он узнал того человека, с которым во Владивостоке встречался у Полубесова.
— А ну разойдись! — крикнул Животов. — Тоже мне цирк нашли.
Он одним движением перерезал веревки.
— А може, энто он пострелял Айбоженко и Сокоря?
— Заткнись, не то я постреляю. Идемте, Владимир Владимирович. Лялин вон в той землянке.
Гусляров растирал руки, морщился. Вошли в землянку.
— Вот он! — с порога закричал Животов.
В землянке находилось несколько человек. Лялин дал знак им выйти.
— Это и есть Владимир Владимирович!
— А мы вас уже заждались. Помяли, вижу, мои ребята? Ну ничего, это иногда бывает полезно.
Лялин выглядел как с длительного перепоя: под глазами мешки, и руки мелко трясутся. На столе пустые бутылки, хлеб, вяленая рыба, рыжие головки лука. Он разлил из бутылки по стаканам.
— За встречу, что ли?
Они выпили за встречу, потом за благополучный переход.
— А у меня тут беда, — жаловался Лялин, — убили гады лучших боевиков. Зажимают нас. Вот такие дела...
Гусляров, несмотря на выпитый самогон, не мог расслабиться и держался угловато. Он знал: еще немного, чуть пообвыкнет — и это пройдет у него, а пока разглядывал главаря банды, который через несколько дней должен предстать перед судом народа за все злодеяния, которые он принес людям.
— Скажите, пусть вернут мне браунинг, — попросил он Животова. Тот выскочил и скоро вернулся с оружием. — Уходить будем на судах. Зафрахтованы две шхуны. Послезавтра они будут стоять в бухте Подкова. Если к вечеру не прибудем, то потеряем и эту возможность. Тогда отсюда не выбраться — и всем конец. Я тоже ухожу вместе с вами, — добавил Гусляров. — В Харбин с отчетом.